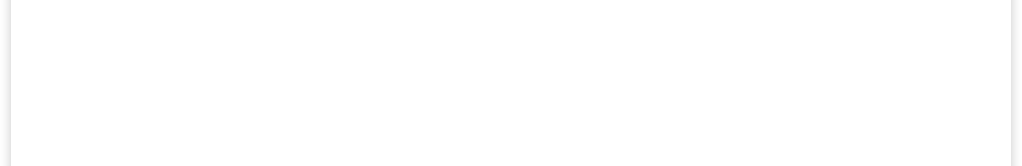Жития Курских новомучеников
Даты:
Собор Курских святых.
Праздник Собора Курских святых был учреждён в 2003 году по ходатайству митрополита Курского и Рыльского Иувеналия и благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II в память столетия канонизации преподобного Серафима Саровского. Празднование было установлено в день обретения мощей и прославления святого Серафима - 19 июля (1 августа).
Собор Курских святых - это праздник Русской Православной Церкви в честь тех угодников Божиих, которые были родом из Курской губернии или служили в пределах Курской епархии. Большое число празднуемых в соборе святых – новомученики и исповедники Российские XX столетия.
Священномученика Александра, архиепископа Семипалатинского
(Щукин Александр Иванович, +30.10.1937)
День памяти 30 (17) Октября
Архиепископ Александр Щукин родился в 1891 году в Риге в семье священника о. Иоанна Щукина и рабы Божией Елизаветы. Дед его — Василий Щукин — служил диаконом в Риге, отец окончил Московскую Духовную академию, был рукоположен во священника и преподавал Закон Божий в Рижской семинарии, епархиальном училище и гимназиях; кроме того, на него была возложена обязанность преподавания латинского и греческого языков.
У о. Иоанна и Елизаветы было семеро детей. Дочь о. Иоанна вспоминала, что отец любил детей, но не баловал их и не потакал их слабостям, опасаясь, что иначе из них вырастут плохие христиане. Но он и не понуждал их насильно к исполнению молитвенных правил, хотя сам все свое свободное время отдавал молитве. Также и жена его Елизавета, если выдавалось свободное время, спешила в храм. Дети о. Иоанна с удовольствием играли, лишь один Александр не принимал в играх участия. Он рос тихим, скромным, послушным и никогда не преступал воли родителей. Пока братья и сестры играли, он запирался в комнате отца и молился. Когда братья начинали шуметь, он выходил и останавливал их:
— Так нельзя, потише, пожалуйста.
Он не был от природы угрюмого нрава, но сердце его было расположено подражать древним подвижникам, для которых смех был выражением дерзости и греховной нечистоты. Он хотел быть священником.
Александр учился в Московской Духовной академии, которую окончил в 1915 году.
С началом первой мировой войны о. Иоанн переехал вместе с семьей в Нижний Новгород, куда к нему после окончания академии приехал сын Александр и поступил преподавателем в Нижегородскую семинарию.
Наступил 1917 год, для Православной Церкви пришел час испытаний. Как испытываемое огнем злато, Церковь выковывалась в огне мирской злобы и мятежей.
Александр стал просить отца благословить его на монашеский подвиг. Отец Иоанн сомневался, выдержит ли Александр крест иночества в такое мятежное время, когда все церковное попирается и уничтожается. Помолившись, отец благословил его ехать в Троице-Сергиеву Лавру. Постриг он принял с именем преподобного Александра Свирского.
В 1918 году Нижегородские власти арестовали о. Иоанна. Полгода пробыл он в заключении, заболел, был отпущен и пришел домой едва живым. После освобождения о. Иоанн стал служить в селе Лысково, и вскоре к нему приехал его сын.
Некоторое время отец и сын служили вместе, пока в 1923 году иеромонах Александр не был вызван в Москву для принятия архиерейского сана. 23 августа 1923 года он был хиротонисан во епископа Лысковского, викария Нижегородской епархии.
Во время его отсутствия о. Иоанн тяжело заболел воспалением легких. Зная, что умирает, он ждал сына, чтобы тот напутствовал его перед смертью.
И как прежде, так и теперь, владыка Александр спешил исполнить пожелание отца. Владыка прибыл накануне его смерти. Отец Иоанн был в сознании, и владыка долго беседовал с ним, а затем напутствовал его Святыми Тайнами.
Первой службой вступившего на кафедру епископа была заупокойная всенощная и литургия по новопреставленному отцу. Похоронили о. Иоанна рядом с храмом, где он служил.
Не напрасно Александр был облечен саном. Он был прекрасным проповедником и добрым наставником. Сам более всего почитавший монашеское житие, многоскорбно собирая в душу тепло благодати, он в этом духе наставлял и своих духовных чад. Некоторых он посылал в Дивеево, а затем, если они выказывали расположение к иноческой жизни, давал на то свое благословение. Служил он в Макарьевском монастыре. Часто ездил помолиться в монастырь Старые Мары, где была чтимая икона Троеручицы. В Лыскове его посещал епископ Варнава, принявший к тому времени подвиг юродства.
В Макарьеве владыка Александр организовал преподавание Закона Божия детям десяти-тринадцати лет. Продолжалось это около года, а затем было запрещено властями.
В сентябре 1927 года на шестьдесят втором году жизни тяжело заболела мать святителя. Владыка ухаживал за ней и присутствовал при ее кончине. Перед смертью она сказала:
— У меня открылись глаза, и я ясно вижу небо. Как там светло... В 1929 году, в день памяти Архистратига Божия Михаила, власти арестовали епископа Александра и отправили в нижегородскую тюрьму, где собрано было тогда почти все нижегородское духовенство.
На допросе у следователя епископ Александр отвечал:
— Проповеди я говорю каждое воскресенье на темы Священного Писания... и иногда в защиту религиозных истин, оспариваемых современниками. Произнесение проповедей и выступление в защиту истины вызывалось стремлением найти истину в вопросах, соприкасающихся с религией, в которых я предоставлял доказательства учения православно-христианского по этим вопросам... Иногда выступал в проповедях против безбожия.
(Беседуя о современном безбожии, епископ говорил, что разрушать монастыри и храмы могут лишь люди, лишенные человечности, не верующие в вечную жизнь, да и в земной жизни мало что предполагающие построить).
Ответы епископа вызвали, по-видимому, недоумение у следователя, и на следующий день владыка написал пояснение: «Вопросами, оспариваемыми современниками, я назвал в своих показаниях вопросы христианской апологе тики, а именно: о конечности мира, происхождении человека через творение его Богом, об исторической действительности христианства, о бессмертии души. А вопросами, соприкасающимися с религией, я назвал научные теории, касающиеся перечисленных выше истин религии. Целью, с которой я говорил такие проповеди, было найти истину в научных теориях и доказать пасомым правильность православно-христианского вероучения в этих вопросах. Вопросов политической, общественной и социальной жизни я в своих проповедях не касаюсь».
В тюрьме ему обещали свободу, если он перестанет говорить проповеди.
Он не согласился.
— Я поставлен проповедовать и не могу отказаться, — сказал архиерей. Следователи били его и пугали, на все святитель отвечал спокойно и кротко:
— Тело мое в вашей власти, и вы можете делать с ним, что хотите, но душу свою я вам не отдам.
Он был помещен в камеру к священникам. Истинный молитвенник и подвижник, он и здесь подолгу молился, понуждая к истовой и неленивой молитве и всех насельников камеры, многие из которых, попав в тесные обстоятельства тюрьмы ГПУ, начали уже унывать.
После ареста епископа его сестра Елизавета ездила в Москву к прокурору Вышинскому — хлопотать о брате, чтобы его или освободили, или отправили в ссылку за свой счет, так как у него больное сердце.
— Вы не по адресу обратились,— отвечал Вышинский, — вам нужно обращаться в Красный Крест. Что касается заключения, то владыка Александр арестован за проповеди и будет отправлен на три года в Соловки.
11 января 1929 года следствие было закончено. Епископа обвинили в том, что он «как идейный противник Советской власти, путем произнесения проповедей с антисоветским уклоном, прививал свои контрреволюционные убеждения населению и в единоличных беседах вел откровенную антисоветскую пропаганду на темы «о бесчинстве коммунистов-безбожников...» Имея преданных ему монахов и монахинь... Давал им указания, как бороться с безбожниками... рассылал их по селам и деревням как миссионеров, не останавливаясь перед открытой борьбой с культурными учреждениями государства [*2]... Руководствуясь положением об органах ОГПУ в части административных высылок и заключения в концлагерь, утвержденного ВЦИКом от 28/1 II-24 года и объявленного в приказе ОГПУ за № 172 от 2/IV-24 года... дело... передать в Особое Совещание... для вынесения приговора во внесудебном порядке...» 26 апреля 1929 года Особое Совещание приговорило епископа к трем годам заключения в концлагерь, которое он должен был отбывать в соответствии с приказом по ОГПУ относительно мест содержания духовенства — на Соловках.
В Соловецком лагере епископ работал сначала сторожем, а затем бухгалтером.
Когда закончился срок заключения, власти в Нижегородскую епархию его не пустили, и он получил назначение в Орел, куда прибыл в день памяти Архистратига Божия Михаила. В Орле он был возведен в сан архиепископа.
Церковь тогда подвергалась беспощадным гонениям, православных арестовывали и расстреливали. Посещать храмы становилось опасным, это рассматривалось как государственное преступление. Страх быть арестованным охватывал все больше людей. Церкви пустели. Владыка стал проповедовать, и храмы начали заполняться народом.
Видя оживление религиозной жизни в городе, чекисты стали подыскивать обвинение против архиепископа. Однажды под вечер к нему пришел человек и сказал, что власти решили обвинить архиепископа в поджогах в городе. Уже есть лжесвидетели, все обвинение готово. Если он в эту ночь не уедет, то будет арестован. Архиепископ уехал в Нижегородскую область и поселился в селе Семеновском, где прожил полгода.
В конце 1936 года владыка получил назначение в Семипалатинск.
Архиерейские кафедры пустели, архиереев одного за другим поглощали тюрьмы.
Сестра Елизавета писала ему в Семипалатинск:
— Уйди на покой, приезжай ко мне в Лысково, пересидишь.
— Как бы я вас ни любил, — отвечал архиепископ,— но. я не для того взял посох, чтобы его оставить.
В августе 1937 года архиепископ был арестован. Он в последний раз благословил своих духовных детей, свидетелей ареста. Следствие в те годы было пыточное, и многие ради избавления от страданий давали любые показания. Архиепископ держался мужественно, не соглашаясь и не подписывая ни одно из навязываемых ему обвинений. Его обвиняли в шпионаже и в контрреволюционной агитации — архиепископ решительно все отвергал. Спрашивали о знакомых, он отказался их называть. Показаний не набралось ни на один протокол допроса, а сроки, отпущенные следователям, подходили к концу. В самый день постановления Тройки УНКВД 28 октября 1937 года следователь Барабанщиков провел последний допрос.
— Вы являетесь членом и руководителем церковной контрреволюционной шпионской организации. Дайте показания...
— Членом контрреволюционной организации я никогда не являлся и в этом обвинении виновным себя не признаю,— отвечал архиепископ.
— Вы лжете. Вы давали установки руководителям филиалов контрреволюционной организации в развертывании контрреволюционной работы...
— Никаких установок по развертыванию контрреволюционной работы я не давал.
— Как член контрреволюционной организации вы проводили активную контрреволюционную агитацию среди населения, прекратите запирательство и дайте показания о вашей контрреволюционной деятельности.
— Никакой контрреволюционной агитации я среди населения не проводил и в этом виновным себя не признаю,— спокойно ответил владыка.
Все это следователь вынужден был записать. В тот же день архиепископ был приговорен к расстрелу.
Через два дня, 30 октября 1937 года, архиепископ Александр был расстрелян.
Всем близким, кто интересовался судьбой владыки, власти отвечали, что он сослан на десять лет без права переписки, а через десять лет ответили без уточнения места и времени, что он умер в лагере.
Священник Казанского храма в Лыскове объявил, что будет отпевание скончавшегося в заключении архиепископа Александра Щукина.
Многие помнили святителя, и народу собралось такое множество, что храм не мог вместить всех желающих. Большая часть пришедших стояла на улице.
Послушница Анна сделала небольшой гроб, туда положила четки святителя, крест и Евангелие.
После отпевания народ молитвенно попрощался с архиепископом, а затем состоялся крестный ход вокруг храма. Впереди, подняв гроб на плечо, шел священник, а хор и весь народ пели: «Волною морскою...»
Использован материал книги: Иеромонах Дамаскин (Орловский) Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 1. - Тверь: "Булат" , 1992 год, стр. 155-160.
Страница в Базе данных ПСТГУ
Священномучеников: Онуфрия (Гагалюка), архиепископа Курского, Антония (Панкеева), епископа Белгородского, иерея Виктора (Каракулина), иерея Ипполита (Красновского), иерея Митрофана (Вильгельмского), иерея Александра (Ерошова), иерея Михаила (Дейнека), иерея Матфея (Вознесенского), иерея Николая (Садовского), иерея Василия (Иванова), иерея Николая (Кулакова), иерея Максима (Богданова), иерея Александра (Саульского), иерея Павла (Попова), иерея Павла (Брянцева), мученика (иерея) Георгия (Богоявленского) и мученика Михаила (Вознесенского)
(Гагалюк Антон Максимович, +01.06.1938; Панкеев Василий Александрович, +01.06.1938; Каракулин Виктор Константинович, +07.05.1937; Красновский Ипполит Николаевич, +01.06.1938; Вильгельмский Митрофан Григорьевич, +01.06.1938; Ерошов Александр Луппович, +01.06.1938; Дейнека Михаил Фомич, +01.06.1938; Вознесенский Матфей, +..1919; Садовский Николай Александрович, +01.06.1938; Иванов Василий Андреевич, +01.06.1938; Кулаков Николай Константинович, +01.06.1938; Богданов Максим Петрович, +01.06.1938; Саульский Александр Ерофеевич, +01.06.1938; Попов Павел Ильич, +01.06.1938; Брянцев Павел Алексеевич, +13.05.1938; Богоявленский Георгий (Григорий) Александрович, +01.06.1938 ; Вознесенский Михаил Матвеевич, +01.06.1938)
День памяти 1 июня (19 мая ст.ст.).
Священномученик Онуфрий родился 2 апреля 1889 года в селе Посад‐Ополе Ново‐Александрийского уезда Люблинской губернии и в крещении наречен был Антонием. Его отец, Максим Гагалюк, по происхождению был малороссом, из крестьян Подольской губернии. Много лет он прослужил ефрейтором крепостной артиллерии в гарнизонах, расположенных в различных городах Польши. По окончании службы он устроился лесником в казенное лесничество Люблинской губернии и теперь, обустраивая свою жизнь, женился на девушке из бедной семьи поляков‐католиков Екатерине. У них родилось шестеро детей: три мальчика и три девочки. Дом лесника стоял в семи верстах от ближайшей деревни и в тридцати семи верстах от ближайшего города Ново‐Александрии. Местоположение дома обусловило и образ жизни семьи: общаться дети могли только друг с другом.
Когда Антонию было пять лет, с его отцом случилось несчастье. Совершая зимой обход леса, он застал четырех мужиков, без разрешения рубивших казенный лес. Застигнутые на месте преступления, они стали просить Максима не записывать их имен для последующего наложения штрафа, но он отклонил их просьбу, и тогда мужики набросились на лесника и стали его избивать. Обладая большой физической силой, Максим сколько мог отбивался от них и в конце концов обратил их в бегство, правда, сам был ранен в руку и в голову – как‐никак порубщики имели при себе топоры. С большим трудом Максим добрался до дома, где жена, омыв раны, уложила его в постель. В ту же ночь мужики‐порубщики подожгли их дом. Максим лежал в это время в комнате, освещенной ярко горевшей лампой, отчего пожар был замечен не сразу, а уже тогда, когда огонь стал пробиваться в комнату. Екатерина бросилась спасать детей, но так как наружная дверь уже была объята пламенем, она, выбив оконную раму, стала бросать их на снег, предварительно закутывая в одеяла. Отец с матерью, выбравшись из горящего дома через окно, сами остались живы, но никаких вещей спасти не удалось. Вскоре из соседней деревни прибыли на подводах крестьяне: Максима отвезли в город в больницу, а Екатерину с детьми приютили в деревне.
Здесь произошло событие, которое весьма поразило Екатерину. «После того как меня с детьми привезли с пожарища в деревню и устроили в хате, я, глядя на моих малых детей, – рассказывала она впоследствии, – оплакивала их и мою горькую судьбу. Дети окружили меня и стали утешать. И вот, сын мой Антон, пяти лет, взобравшись ко мне на колени и обняв за шею, сказал мне: “Мама! Ты не плачь, когда я буду епископом – то возьму тебя к себе!” Я была так поражена этими словами, ибо не поняла их значения, и даже испугалась, что переспросила Антошу: “Что ты сказал? Кто такой епископ? Где ты слышал такое слово?” Но он мне только повторил уверенно и серьезно: “Мама, я буду епископом, я сам это знаю”».
Отец Антония, Максим, скончался в больнице, и осиротевший мальчик был принят по просьбе матери в приют в городе Люблине. В приюте мальчик хорошо учился и, окончив церковноприходскую школу, был отправлен на средства приюта в город Холм в духовное училище, которое окончил с отличием, и был принят в Холмскую Духовную семинарию.
Он учился в семинарии в то время, когда Холмский край стал краем смут и раздоров – революционных, прокатившихся тогда по стране, национальных, так как в этом крае жили русские, поляки и евреи, и религиозных, и поэтому православные оказались вынуждены защищать свою веру.
Здесь, на границе столкновения православия, иноверия и инославия, будущий епископ увидел воочию, какая жестокая, поистине беспощадная ведется борьба против истинной веры, причем «церквами», которые называют себя христианскими. Здесь юный Антоний на практике столкнулся с католицизмом, с его стремлением подчинить все и вся своему влиянию и власти. Это был не победивший католицизм, успокоившийся и правящий, благоденствующий в своих границах, а католицизм воинствующий. Тут, на поле духовной брани, на границе соприкосновения католицизма и православия, было видно отчетливо, с какой ожесточенностью, хитростью и лукавством католицизм воюет против Православной Церкви. Практическое столкновение с католической идеологией дало Антонию наглядное представление о происхождении и методах действия сект и помогло впоследствии увидеть опасность в расколах ХХ века.
Учась в семинарии, Антоний сначала мечтал стать врачом, затем учителем. Но в последнем классе семинарии, перед самым ее окончанием, с ним случилось событие, указавшее ему путь служения Богу и Его Святой Церкви. За месяц до выпускных экзаменов Антоний заболел воспалением легких и был помещен в семинарскую больницу. Состояние здоровья его было тяжелым, так что боялись за его жизнь, и в семинарской церкви постоянно служились молебны о его исцелении. Впоследствии Антоний рассказывал своей матери: «Я находился в забытьи; или наяву, или во сне (хорошо не помню) передо мной появился чудесный старец, обросший большой бородой до ступней ног и седыми длинными волосами, закрывавшими голое тело его до пят. Старик этот ласково на меня посмотрел и сказал: “Обещай послужить Церкви Христовой и Господу Богу и будешь здоров”. Слова эти посеяли во мне страх, и я воскликнул: “Обещаю!” Старец удалился. Я заснул и с того времени начал поправляться. Когда потом я стал осматривать иконы с изображениями великих православных святых, в изображении святого Онуфрия Великого заметил я черты явившегося мне старца».
Еще не вполне оправившись от болезни, Антоний приступил к сдаче экзаменов и выдержал их, окончив семинарию по второму разряду. Это обстоятельство сильно его опечалило, так как при поступлении в Духовную академию теперь необходимо было держать конкурсный экзамен, к которому, следовательно, нужно было готовиться, что при его слабости от перенесенной болезни представлялось ему затруднительным, и появились мысли поступать не в академию, а в университет. Антоний пошел посоветоваться об этом с тогдашним ректором семинарии епископом Дионисием (Валединским), но тот благословил его поступать в Санкт‐Петербургскую Духовную академию. В том же году, успешно выдержав экзамены, Антоний поступил в академию.
По окончании II курса Антоний был послан ректором академии в Яблочинский Онуфриевский монастырь читать лекции по богословию на курсах, организованных для группы учителей, прибывших из Галиции. Прочитав курс лекций, уже перед самым отъездом Антоний снова заболел воспалением легких. Положение его вызванными в монастырь врачами было признано почти безнадежным. Об исцелении его снова стали служиться молебны.
Он лежал в келье в забытьи, слышал пение святых молитв, и вдруг перед его глазами предстал тот же старец, который посетил его в семинарской больнице в Холме три года назад и взял с него слово, что он посвятит свою жизнь служению Богу. Это был преподобный Онуфрий Великий, небесный покровитель Яблочинского Онуфриевского монастыря. Сурово посмотрел на него святой Онуфрий и с укоризной сказал: «Ты не выполнил своего обещания, сделай это теперь, Господь благословит».
«Когда я открыл потом глаза, – рассказывал Антоний, – то увидел, что в келье служат молебен о моем выздоровлении перед чудотворным образом святого Онуфрия, который был поставлен возле моей кровати. Я прослезился от умиления и заявил присутствовавшему тут архимандриту Серафиму, что по приезде в академию приму иноческий постриг».
5 октября 1913 года в конце всенощного бдения в академическом храме Санкт‐Петербургской Духовной академии ректор академии епископ Анастасий (Александров) совершил пострижение Антония в монашество с наречением ему имени в честь преподобного Онуфрия Великого. Необыкновенный постриг, не бывавший ранее в академическом храме, совершавшийся по древнему чину, привлек множество людей. В числе молящихся были архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский), обер‐прокурор Святейшего Синода В. К. Саблер, генералы и офицеры.
После отпуста через царские врата в мантии вышел на амвон епископ Анастасий и, заключая чин пострига особым последованием вручения новопостриженного инока старцу, архимандриту Феофану, сказал: «Се передаю ти, отче Феофане, брата сего Онуфрия от святаго Евангелия, еже есть от Христовы руки, чиста и непорочна. Ты же приими его Бога ради себе в сына духовнаго и направи его на путь спасения, и научи, яже сам твориши к пользе душевней: прежде всего страху Божию, еже любити Бога всем сердцем и всею душею, и всею крепостию и повиновение имети беспрекословное к настоятелю... и любовь нелицемерну ко всей братии, и смирение, и молчание, и терпение во всем. И какова его принимаеши от святаго Евангелия, да потщися такова же представити Христови в страшный день праведнаго Суда».
«Превыше нашей меры дело сие, владыка святый, – отвечал архимандрит Феофан, – но повелено ны есть от Спасителя нашего Иисуса Христа наипаче всего послушание имети к настоятелю, и, елика сила в Бозе, не отрицаюся. Должен есмь наипаче всего попечение имети о нем, яко же Бог настави нас, убогих, за ваших ради отеческих честных молитв».
Затем епископ Анастасий обратился с речью к новопостриженному иноку. Рассказав о пути, каким тот шел к постригу, об обетах, которые давал юноша еще на школьной скамье, о болезнях, которые пришлось ему перенести, о чудодейственном вмешательстве и исцелении по молитвам преподобного Онуфрия Великого, преосвященный ректор сказал: «Преподобный Онуфрий Великий стал для тебя теперь особенно дорогим. Ты решительно мыслил себя глубоко счастливым – быть иноком, имея своим небесным покровителем преподобного Онуфрия. Се икона его пред тобою. По милости Божией ты теперь инок Онуфрий. Прими, брате, святой образ преподобного во благословение от меня, грешного. Да укрепит тебя Господь в твоем новом послушании, а угодник Божий преподобный Онуфрий Великий да будет твоим заступником и предстателем пред Господом и водителем в предстоящих тебе трудах! Иди, брате Онуфрие, подобно апостолу Петру, “утверди братию твою” (Лк. 22, 32) Холмской Руси в православной вере, дабы красотою святой веры привлечь к правой вере и окрест живущих, родных, но иноверных братьев!»
11 октября 1913 года епископ Анастасий рукоположил инока Онуфрия во иеродиакона, а вскоре и во иеромонаха.
Иеромонах Онуфрий, учась в академии, участвовал вместе с другими студентами‐священниками в миссионерских посещениях ночлежных домов, расположенных неподалеку от академии на Обводном канале. В течение нескольких вечеров студенты‐иеромонахи назидали ночлежников духовной беседой и пели с ними пасхальные и другие церковные песнопения. Через несколько дней в Александро‐Невской Лавре специально для обитателей ночлежек были отслужены утреня и литургия. Утреню служили студенты‐иеромонахи; во время утрени происходила исповедь, в которой принимал участие и иеромонах Онуфрий. За литургией было предложено всем ночлежникам подать записки о здравии и упокоении и раздавались просфоры.
По благословению ректора академии епископа Анастасия иеромонах Онуфрий стал служить в храме села Михайловки неподалеку от станции Парголово Финляндской железной дороги.
Подходило к концу время внешнего мира и покоя России, на пороге стояло время испытаний – и прежде всего веры, кто к чему успел приготовиться. Ввергая Русскую Православную Церковь в огненную пещь испытаний, Господь властной рукой отводил внимание человека от внешнего – к внутреннему, окружая внешней теснотой жизни, предлагал обратить внутренний взор к бескрайности Царства Небесного. От окостенения душевного и омертвения, проявлявшегося прежде всего в безразличии к Церкви, Господь отрезвлял тяжелыми страданиями, чтобы хотя бы некоторые исцелились.
Давно не виделись братья – Андрей и иеромонах Онуфрий, отделенные друг от друга тысячью верст: отец Онуфрий – в Санкт‐Петербурге, брат Андрей – на родине, в Люблине. Летом 1914 года Андрей приехал в Санкт‐Петербург навестить брата. В это время было получено известие о начале войны между Германией и Россией, и к вечеру Андрей уже получил телеграмму, что он должен возвратиться к месту своей службы в Люблин, где в это время начались военные действия. Прощаясь с братом, иеромонах Онуфрий узнал, что тот не носит креста. Его это поразило, ведь крест – видимый знак проявления нашей веры, ее исповедания. Грозно предупреждение Спасителя о тех, кто постыдится Его в роде сем, прелюбодейном и грешном. Отец Онуфрий снял с себя крест и надел на брата.
Помолившись об избавлении брата от смерти, он напомнил ему, что, находясь в действующей армии, он ежеминутно подвергается опасности быть убитым или раненым, а посему нужно всегда молиться Богу. «Крест, которым я благословил тебя, – сказал отец Онуфрий, – носи всегда на себе и верь, что он спасет тебя от смерти». Окончилась для России Первая мировая война, – Андрей остался жив.
Во время гражданской войны на Украине в 1919 году он работал на заводе в окрестностях города Черкассы. Однажды на завод прискакал разъезд кубанских казаков. Поймав приказчика завода – еврея, казаки стали жестоко его избивать. В это время вбежал Андрей Гагалюк и, бросившись на казаков, потребовал прекратить избиение, при этом он назвал еврея своим товарищем. Услышав слово «товарищ», начальник разъезда – офицер принялся избивать Андрея нагайкой и кулаками, а затем, застрелив еврея‐приказчика, выстрелил в Андрея, но промахнулся. Истратив все свои патроны, он приказал казакам расстрелять его.
При избиении рубашка на груди Андрея разодралась, и стал виден крест, которым благословил его брат‐иеромонах в день объявления войны. Казаки, сняв с плеч винтовки и направив их на Андрея, увидали у него на груди крест, на который в этот момент упал солнечный луч, от чего крест засиял. Казаки сделали залп из четырех ружей, не причинивший Андрею ни малейшего вреда, и опустили ружья. Офицер прикрикнул на них и приказал стрелять еще раз. Казаки отказались, заявив, что не будут стрелять в православного, носящего на груди крест. Офицер уступил. Так крест, данный братом, спас Андрея от смерти.
В 1915 году иеромонах Онуфрий окончил Петроградскую Духовную академию со степенью кандидата богословия и 15 июля того же года был определен на должность преподавателя русской церковной истории и обличения раскола, проповедничества и истории миссии в пастырско‐миссионерскую семинарию при Григорие‐Бизюковом монастыре Херсонской епархии, ставшем центром просвещения всего западно‐русского края.
«Херсонские епархиальные ведомости» так писали об основании здесь семинарии: «Мысль об открытии при Бизюковом монастыре церковно‐богословского училища, получившего ныне официальное название “Пастырско‐миссионерской семинарии”, принадлежит бывшему настоятелю Бизюкова монастыря архиепископу Херсонскому Димитрию (Ковальницкому).
Несомненно, впервые зародилась эта мысль в душе почившего архипастыря и созрела на великих примерах славного прошлого христианской Церкви, когда монастыри христианские были не только местами молитв, подвига и покаяния, но служили и центрами христианского образования и культуры.
Но энергичное и широкое осуществление этой мысли именно теперь вызвано было, с одной стороны, современным тяжелым и крайне опасным положением Православной Русской Церкви, нуждающейся более чем когда‐либо в искренних, стойких, просвещенных и самоотверженных тружениках и защитниках Церкви, а с другой – неопределенным, теплохладным, а иногда и прямо враждебным отношением к интересам Церкви, каковое недавно переживали наши духовно‐церковные заведения (академии и семинарии).
Кто привык вдумываться в окружающие явления жизни, тот не мог не видеть, что “разруха” жизненных устоев еще так недавно шла учащенным темпом по всем линиям, притом наиболее ощутительно она сказалась в церковно‐религиозном строе. Самым злостным нападкам, глумлениям и унижениям подвергались священнослужители Церкви, с беззастенчивою наглостью высмеивались открыто ее уставы и учреждения, с дикой озлобленностью подвергались извращению ее догматы и истины нравственные. А между тем те, кто и происхождением, и воспитанием, и средствами своего образования, казалось бы, прежде всего и более всего должны были стать в ряды пламенных защитников и борцов обуреваемой вражескими силами Церкви, – те оборачиваются спиной к вскормившей их и воспитавшей их Церкви и малодушно бегут на чуждые пажити, ища там, вне церковной ограды, сытого и безмятежного прозябания...
Предлежит насущная и самая неотложная нужда в обновлении и освежении нашего духовного сословия; необходимо влить в него свежую струю, новые крепкие целебные жизненные соки. И такой живой приток свежих творческих сил может дать наш простой народ... Вот почему и почивший инициатор монастырской школы архиепископ Димитрий и организатор ее в более широком масштабе... архиепископ Назарий одинаково остановились на мысли комплектовать школу при Бизюковом монастыре по преимуществу из молодой целины простого русского народа.
В соответствие этому выработаны были правила для отсева из этой молодежи чистых зерен от плевел, вошедшие в... устав о Бизюковской семинарии.
По этим правилам... в Бизюковскую семинарию принимаются “без экзамена лица православного исповедания, заявившие себя доброй нравственностью и церковным направлением, успешно окончившие курс церковно‐учительских школ, дополнительных двухгодичных курсов при второклассных школах и учительских семинариях”, – иначе говоря, в семинарию широко открыты двери для лучшей крестьянской молодежи, так как она одна наполняет этого рода школы.
Для созидания духа и направления вновь открытой школы это обстоятельство чрезвычайно важно. Все здесь ново, цело и чисто. Никакой рутины, никакой дурной традиции. Почва – девственная. Чистые, осмотрительно отсеянные зерна народного организма, любовно посаженные на эту почву, несомненно, возрастут в зрелые плоды для блага Церкви Христовой.
Этому благоприятствуют и внешние обстоятельства. Отдаленность Бизюкова монастыря от больших городов и местечек, могущих привнести развращающее влияние, непрестанная трудовая жизнь под сенью монастырских святынь, прекрасное светлое трехэтажное здание семинарии... наконец, чудный степной воздух, снизу освежаемый “седым” Днепром, шумно и плавно, тут же у монастырских стен катящим свои волны, – все это уже само по себе способствует правильному здоровому развитию и процветанию основанной здесь семинарии.
Если, затем, принять во внимание самое главное, а именно, что в программе предметов, преподаваемых в Бизюковской семинарии, не только включен богословский курс духовных семинарий, но в некоторых частях этот курс даже значительно расширен, особенно насчет элементов миссионерского и апологетического, то можно с полной уверенностью сказать, что в недавно открытой пастырско‐миссионерской семинарии Херсонская епархия приобрела рассадник духовного просвещения, долженствующий в недалеком будущем давать не только епархии, но и всей России воспитанных, искренних и стойких защитников Православной Церкви и самоотверженных ее служителей».
Каждый год, начиная с 1911 года, в дни Святой Троицы в монастыре устраивалась «миссионерская неделя», когда в обитель съезжались все миссионеры Херсонской епархии. В это время монастырь наполнялся богомольцами, так что ими была заполнена вся монастырская ограда. В 1916 году в эти дни выдалась прекрасная погода, что увеличило «еще более празднично‐молитвенное настроение пришедших помолиться в святую обитель. А торжественное богослужение многочисленного духовенства, стройное, воодушевленное пение монастырского, хотя и небольшого хора и особенно общенародное исполнение некоторых песнопений за богослужением, а на второй и на третий день праздника и всей литургии, проповеди и поучения наместника монастыря... и прибывших миссионеров – все это вместе взятое дало такие чудные духовные переживания, которые надолго успокоили и усладили горе и печаль пришедших во святую обитель».
Иеромонах Онуфрий говорил поучение в самый день Троицы; он говорил о важности Таинства Святого Причащения, через которое «православный христианин входит в теснейшее единение с Господом. Близость же Господа всегда человеку необходима. Далекий от Господа – несчастный человек. Он духовно глух и слеп, он не знает и не чувствует благодатной, блаженной жизни. Наоборот, близость ко Господу является источником всякого блаженства. Теснейшее единение с Господом и дает нам Святое Таинство Причащения. В этом Таинстве мы становимся едино с Господом, Господь входит в сердца наши и вечеряет с нами, Господь водворяется в нас, мы становимся Его телом. И достойно причастившиеся поистине чувствуют это блаженство. На их лицах сияет радость, душа полна мира и тихого счастья, все недуги, душевные и телесные, ослабевают, страсти умолкают, духовное прозрение становится яснее, сердце любвеобильнее, воля сильнее в делании добра. И все это от ощущения присутствия в себе Господа…». Он закончил «свое поучение призывом со страхом, верою и любовию приступать ко святой Чаше, и приступать возможно чаще».
О своих впечатлениях о монастыре, особенно от монастырских служб, отец Онуфрий писал в одной из статей, посвященной уставному всенощному бдению на память преподобного Саввы Освященного: «Когда слышалось умилительное пение стихир “Савво богомудре” – величественные гимны хвалительных псалмов... невольно думалось о всех тех, кто не вкушал этого “пира веры”. От юношей, воспитанников пастырско‐миссионерской семинарии, мысль переходила к тем юношам (и духовным и светским), которые не видели еще уставного всенощного бдения. Думалось: какие глубокие чувства вызвало бы это бдение в живой юношеской душе!.. Присутствовавшие богомольцы напоминали о тех, кто не суть от двора сего (Ин. 10, 16), о тех, кто по безразличию проходит мимо храма православного, – о тех, кто сознательно по гордости отрекается от Церкви. Думалось: как часто в религиозных исканиях эти безразличные и упорные стараются утолить свой духовный голод “рожками” (Лк. 15, 16) и не подозревают, что в ограде Христовой Церкви для них же уготован телец питомый... Боже! дай всем людям возможность восклицать в религиозном восторге вместе с псалмопевцем: “Господи, возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы Твоея!” (Пс. 25, 8)».
Мать иеромонаха Онуфрия жила до 1915 года в Польше у старшего сына Владимира. Когда началась война и приблизились немецкие войска, Владимир отправил мать вместе с сестрой и ее детьми на подводе в Брест, откуда они должны были с другими беженцами выехать в глубь России. Приехав в Брест, где скопилась масса беженцев, Екатерина Осиповна, которой шел тогда шестьдесят второй год, потеряла в толпе дочь и внуков. Полагая, что они уже уехали, она села в поезд, наивно надеясь, что дочь сможет ее разыскать. Поезд все дальше уходил от границы. На станциях учрежденные властями люди кормили всех беженцев – была сыта и Екатерина Осиповна. Но вот наконец поезд прибыл в Херсон, и последовал приказ всем беженцам высадиться с тем, чтобы уже каждый устраивался как сможет.
Екатерина Осиповна оказалась на улице в незнакомом городе, без денег, без запаса одежды. Пробродив целый день по городу, она пришла к набережной реки – голодная, продрогшая, беспомощная. Сердцем овладело отчаяние и, глядя на реку, она решила утопиться. Помолившись Богу, она собиралась было уже привести намерение в исполнение, но в этот момент кто‐то кашлянул неподалеку. Она оглянулась и увидела, что на берегу стоит кто‐то в черном, похожий на монаха. «Это монах, – мелькнула у нее мысль, – и сын у меня монах. Может быть, он знает его и знает, где он». Она стала звать его. Монах спустился к реке и спросил, что ей нужно. Екатерина Осиповна сказала, что ищет сына, который учился в академии в Петербурге. «Такого я не знаю», – ответил монах и хотел уйти. «Ну, теперь я утоплюсь, – сказала старушка. – У меня шестеро детей, но я не знаю теперь, где они, и я должна погибнуть».
Монах сжалился над несчастной женщиной и повел ее в архиерейский дом в надежде, что епископ может знать сына старушки, как ученого монаха. На звонок вышел келейник, и монах настоял, чтобы он доложил епископу, что старушка‐беженка ищет своего сына. Келейник впустил ее в дом и пошел доложить о просительнице епископу Прокопию (Титову). Вскоре открылась боковая дверь и вышел епископ. Старушка упала перед ним на колени.
«Он подошел ко мне, – вспоминала она, – благословил меня и спросил: “Что вы хотите, матушка?” Я ответила: “Ищу сына”. – “А кто он такой?” – “Иеромонах Онуфрий из Петербурга”. И слышу, он радостно спрашивает: “Гагалюк?” Я, как услышала фамилию сына, то от радости потеряла сознание. Епископ привел меня в чувство, усадил в кресло и сказал: “Он у меня”. Я опять потеряла сознание. Когда я пришла в себя, он сказал: “Вы успокойтесь, он не здесь у меня, а в девяноста верстах отсюда, в Григорие‐Бизюковом монастыре. Вы отдохните немного, выпейте чаю, закусите. Заложат экипаж, который и отвезет вас к сыну”. Он вышел, и тогда я поняла, что это епископ. Я первый раз в жизни видела епископа и подумала: “Неужели и сын мой будет таким и исполнится пророчество моего маленького Антоши, который когда‐то сказал мне, что будет епископом?” Через некоторое время епископ усадил меня в карету, туда же сел келейник, и лошади помчали меня к сыну. На следующий день в монастырь приехал епископ Прокопий, совершил службу и по окончании сказал проповедь о том, “как мать чудесным образом нашла своего сына”. Все бывшие в церкви плакали, и мне казалось, что более счастливого человека, чем я, нет никого на свете!»
В письмах этого периода к брату Андрею иеромонах Онуфрий писал: «Хотя я стал и дурным монахом (не в грубом смысле, а в духовном: плохо молюсь, сердце нечисто, гневаюсь, ленюсь и прочее тому подобное), но как‐то хочется быть лучшим... Дела мои иноческие идут средним путем. Господь миловал, особых потрясений не чувствую. Настроение спокойное. Иногда горюю, но часто бывают и радостные минуты. Живу в мире со своими товарищами – преподавателями‐монахами… Я состою преподавателем и воспитателем одного класса. Уроки идут хорошо. Ученики в общем хорошо относятся ко мне, а я – к ним».
В 1917 году произошла безбожная революция, и вскоре началась гражданская война. На Григорие‐Бизюков монастырь напала банда махновцев. Монастырь был разграблен, многие монахи убиты. Такая же участь ожидала и оставшихся в живых, если бы не защита крестьян. Узнав о нападении на монастырь махновцев, на выручку монахам поспешили крестьяне соседних деревень. Отбив у махновцев монахов, крестьяне увезли их в свои деревни. Иеромонаха Онуфрия отвезли в город Берислав, где, по просьбе православных, епископ Прокопий назначил его настоятелем Успенской церкви.
Весной 1921 года иеромонах Онуфрий писал брату: «Много было работы на первой неделе Великого поста, притом в церкви было холодно: я обессилел и замерз. В результате лихорадка. Боялся, что сыпной тиф. Господь помиловал меня по чьим‐то святым молитвам. У меня есть помощник, тоже иеромонах. Он уже переболел сыпным тифом, окреп и служит, а я пока сижу в доме: отдыхаю. Не правда ли, как Господь хранит нас, окаянных... Уже второй год тружусь, работа эта мне по духу. Лучшей деятельности, как православного священника и архиерея, не знаю. Дал бы только Господь сил... отдаться всецело на служение Богу и людям… Каждый день непременно есть посетители, так что я ни на один день не могу отлучиться куда‐либо, хотя бы в свою родную обитель, которая в восемнадцати верстах от Берислава. Благодарю Бога, что дал мне возможность служить Ему и людям. Живу, не зная, конечно, что ждет меня впереди. Твердо положился на волю Божию. Только чувствую, что ослабевают мои физические силы...
Как же поживаешь ты, милый брат мой? Сильный духом, добрый, отзывчивый, труженик и, конечно, верующий в Бога, но, как большинство интеллигенции, – мирского духа! Заглядывай, голубчик, чаще в церковь. Обязательно поговей, если есть жена при тебе, то с ней, в Страстную седмицу. Об этом убедительно просит тебя твой брат, священник, убежденный христианин. Жизнь моя пастырская более радостна… чем уныла. С тех пор как я принял иночество и священство, с моих глаз спала как бы какая‐то пелена и я стал в общем радостен, спокоен, всех люблю, кто бы они ни были. Это, конечно, не мои заслуги, а милость Господа, Который призрел на меня, низкородного, застенчивого до болезненности, омыл меня духовно и обвеселил. Дай, Господи, чтобы до конца дней моих сохранил меня в радости и покое...»
В 1922 году иеромонах Онуфрий был назначен настоятелем Никольской церкви в городе Кривой Рог Екатеринославской губернии и возведен в сан архимандрита.
За разрухой гражданской последовала вскоре разруха церковная. Летом 1922 года образовалось движение обновленцев, руководители которого предлагали радикально реформировать Церковь. В августе 1922 года состоявшийся в Киеве Собор православных архиереев избрал архимандрита Онуфрия кандидатом во епископа Херсоно‐Одесской епархии.
Глава обновленческого раскола митрополит Евдоким (Мещерский) предпринял все возможные меры, чтобы не допустить хиротонии во епископа архимандрита Онуфрия. В декабре 1922 года Андрей Гагалюк, разыскивая своего брата архимандрита, обратился к «митрополиту» Евдокиму с просьбой сообщить что‐нибудь об архимандрите Онуфрии. Евдоким был хорошо осведомлен о происходящем в православных приходах и незамедлительно ответил, что архимандрит Онуфрий находится в Кривом Роге и ведет активную проповедь против обновленческого движения в Церкви. При этом Евдоким добавил: «Если вы его брат, я вам советую послать ему сейчас же, немедленно, телеграмму с вызовом его в Москву ко мне. Если он смирится перед нами и примкнет к нашему движению, мы возведем его в сан епископа и дадим ему любую епархию. Вы должны предупредить его, что, если он не покорится нам, его ждет тюрьма и ссылка. Поспешите. Время не терпит».
Телеграмма была послана, и последовал ответ: «Ничего общего с Евдокимом иметь не желаю».
Спустя два года, когда брат посетил владыку Онуфрия в Харькове и речь зашла о посещении Андреем «митрополита» Евдокима, владыка, слегка пожурив брата, сказал: «Евдоким меня звал потому, что знал – скоро должна состояться моя хиротония. Как ни старались обновленцы помешать этому, я усыпил их бдительность и успел тайно выехать в Киев, где и был возведен в сан православного епископа. Они страшно обозлились и решили во что бы то ни стало погубить меня. Содержание меня в тюрьмах и ссылка – это дело их рук».
4 февраля 1923 года экзарх Украины митрополит Михаил (Ермаков) и епископ Уманский Димитрий (Вербицкий) хиротонисали прибывшего в Киев архимандрита Онуфрия во епископа Елисаветградского, викария Одесской епархии.
Митрополит Михаил уведомил новохиротонисанного архиерея, что канонически он подчиняется ему и епископу Николаевскому Прокопию (Титову), назначенному управляющим Херсоно‐Одесской епархией. После хиротонии епископ Онуфрий сразу же уехал в Елисаветград, а на следующий день митрополит Михаил был арестован и сослан.
6 февраля 1923 года епископ Онуфрий прибыл в Елисаветград и при громадном стечении молящихся совершил в Успенском соборе свою первую архиерейскую службу. Через несколько дней после этого к владыке пришел уполномоченный обновленческого ВЦУ Трофим Михайлов и спросил его, какой он придерживается церковной ориентации. Епископ Онуфрий ответил решительно и прямо: «Я не признаю2 и никогда не призна1ю ВЦУ и его “архиереев” и “иереев” и подчиняюсь лишь непосредственным каноническим начальникам: митрополиту Михаилу и епископу Прокопию».
На следующий день после визита уполномоченного обновленцев епископ Онуфрий был арестован и заключен в тюрьму – сначала Елисаветграда, а потом Одессы. Его обвинили в том, что он, приехав, не зарегистрировался у властей как епископ и возглавил незарегистрированное местное церковное управление, относящееся к патриаршей Церкви, а также в том, что он не поддержал обновленцев, которые были зарегистрированы как единственные признанные гражданскими властями представители Церкви. Кроме того, власти попытались обвинить епископа Онуфрия в шпионаже на том основании, что епископ пришедшего его арестовать сотрудника ОГПУ с интересом расспрашивал об организации, в которой тот служит.
Вспоминая впоследствии свои скитания по тюрьмам, владыка писал: «Немного прожито, но много пережито. Всего лишь два года я епископ, но... из этих двух лет я провел шесть месяцев в узах... в темницах... Елисаветграда, Одессы, Кривого Рога, Екатеринослава и, наконец, Харькова. Меня водили под конвоем пешком по улицам много раз, ездил я и в этапном вагоне поезда за решетками. Сидел я среди воров и убийц... Я вспоминал свои грехи вольные и невольные и радовался, что Господь дал мне пить чашу страданий за мои согрешения...
В Великий пост соузники пожелали исповедаться и причаститься Христовых Таин. Тюремное начальство разрешило, и поехали к епископу, проживавшему в городе Одессе, за священником. Но оказалось, что и епископ и священник были неправославные... Заключенные не захотели исповедоваться у обновленцев‐раскольников. А среди заключенных был православный священник – отец Петр. Его мы и упросили, и он исповедовал арестантов, а затем служил литургию и причащал.
Свыше пятисот арестантов нас было, которые молились, исповедовались и причащались Христовых Таин. Составился небольшой хор из заключенных. А Символ Веры и молитву Господню пели все молящиеся... Многие из арестантов не говели по нескольку лет, а теперь поговели. И замечательное дело – во всем обширном городе Одессе была ли тогда православная церковь, а у нас в тюрьме совершалось православное богослужение.
В другой тюрьме (Кривой Рог) со мной сидел молодой еще человек с богословским образованием, много мы с ним беседовали. Когда его освободили, он писал мне, что пребывание его со мной в узах было одним из лучших моментов в его жизни. И я тоже с любовью вспоминаю тяжести темничной жизни. Конечно, это потому, что Господь, утешающий сердца Своих рабов, был со мною, многогрешным.
Между прочим, когда я сидел в узах, один довольно образованный человек говорил мне:
– Вот вы здесь сидите, при трудностях темничной жизни вы покойны; вам присылают помощь добрые люди, при этом сознание говорит вам, что вы сделали всё, что нужно. А мне кажется, – продолжал он, – что вы поступили неправильно. На кого вы оставили или бросили даже свою паству, не лучше ли было бы вам как‐нибудь пойти на компромисс, признать ВЦУ, а то ведь вашу паству будут расхищать волки хищные!
Я подумал и ответил ему:
– Видите ли, если бы я отрекся от Святейшего Патриарха и своей церковной законной власти, а признал бы раскольничье самочинное и безблагодатное ВЦУ, я перестал бы быть епископом православным. И свою паству, которая доверилась мне, я обманывал бы тогда, перестав быть святителем. А теперь, с Божьей помощью, я сохранил чистоту православия, оставшись православным епископом».
15 мая 1923 года епископ Онуфрий был освобожден из тюрьмы в Одессе, но с него была взята подписка, что он выедет за пределы Одесской области. В докладе Патриарху Тихону епископ Онуфрий писал об этом периоде своего церковного служения: «Я избрал местом жительства город Кривой Рог, где был настоятелем главной церкви – Николаевской – в сане архимандрита до назначения меня епископом Елисаветградским. Положение города Кривого Рога – особое. Он – в гражданском отношении принадлежит к Екатеринославской губернии, но в церковном – к Херсоно‐Одесской епархии, именно Николаевскому викариатству. В городе Кривом Роге я, после заключения одесского, несколько времени отдыхал, но вскоре же начал борьбу с ВЦУ. В начале июня я послал воззвание к православному духовенству и мирянам своей Елисаветградской епархии, коей я считал себя по праву епископом; в воззвании я призывал их ни в коем случае не признавать так называемое ВЦУ и его “архиереев” и “иереев”, ибо все они со своим ВЦУ ушли из Церкви и являются неправославным обществом. Убогое мое послание получено было и вне моей епископии и, по слухам, имело значение. Но несравненно бодрее почувствовали себя православные всей епархии после освобождения Вашего Святейшества. Во многих местах Елисаветградского викариатства (в коем и все время были православные пастыри и приходы) начались обращения к Церкви. Херсонское Николаевское викариатство почти все осталось православное. Напротив, Одесса и окружающие ее уезды – были сплошь неправославными. Но в последнее время в Одессе начинается энергичная духовная борьба с ВЦУ. Во главе стоит известный пастырь‐молитвенник протоиерей Иона Атаманский; по сведениям (письмо мне от отца Ионы), уже 22 священника в Одессе сбросили иго ВЦУ и приняли иго Христово. Будут хлопотать о том, чтобы Святейший Патриарх назначил им для духовного окормления православного епископа. Я послал духовенству города Одессы, согласно просьбе некоторых верующих, свое обращение, где призываю последовать примеру отца Ионы и 22 его соучастников – и всему духовенству города Одессы.
Преосвященный епископ Прокопий пока еще не на свободе. Позволяю себе думать, что если бы владыку Прокопия освободили и он по праву стал бы управляющим всей Херсоно‐Одесской епархии, то православное дело весьма выиграло бы. Если бы даже мне, убогому, разрешили жить в городе Елисаветграде, то дело Церкви тоже несколько было бы лучше. Очевидно, это учитывают и представители ВЦУ. Но надежда на освобождение владыки Прокопия и мое возвращение в Елисаветград все же есть, и о сем усердно хлопочут православные. В настоящее время, живя в городе Кривом Роге, я тружусь над объединением всего Криворожского округа в одно православное викариатство...»
Служение епископа Онуфрия в Кривом Роге стало торжеством православия. Его богослужения собирали молящихся всех возрастов – от глубоких стариков до подростков. Храм всегда был полон молящимися. Многие приезжали из соседних деревень и простаивали долгие монастырские службы. Молодежь во время служения епископа в городе забывала все развлечения, и многих эта приверженность к церкви оградила впоследствии от развращающей проповеди безбожия.
16 октября 1923 года епископ был арестован. Поводом для ареста послужило послание епископа Онуфрия к пастве, в котором он предостерегал верующих от обращения к живоцерковникам. Это послание было расценено как антисоветское, и епископ был отправлен сначала в криворожскую, а затем в елисаветградскую тюрьму.
Когда весть об отправке епископа из криворожской тюрьмы в елисаветградскую дошла до верующих, народ бросился на станцию. Однако на перрон никого не пустили. Люди обступили железнодорожную насыпь и встали вдоль путей, по которым должен был пройти поезд. Состав медленно отошел от перрона, владыка стоял у окна с решеткой и благословлял свою паству. Громкий плач провожавших слился в единый вопль, который звучал до тех пор, пока поезд не скрылся с глаз.
Из Елисаветграда епископ был перевезен в харьковскую тюрьму, где он пробыл три месяца. 16 января 1924 года власти освободили епископа из тюрьмы, взяв с него подписку о невыезде из города Харькова.
Выйдя из заключения, епископ Онуфрий сразу же обратился с посланием к херсоно‐одесской пастве; он произнес во время своих частых богослужений множество проповедей, разослал письма, объясняющие суть современного церковного положения в связи с обновленческим и другими расколами. В Харькове жили в то время на положении ссыльных семь архиереев, и хотя ни по возрасту, ни по хиротонии епископ Онуфрий не был старшим, однако он был признан за такового всеми епископами.
Время было тяжелое; кроме открытых гонений было еще и множество соблазнов. Одному из своих друзей епископ писал: «Разве только в храме мы должны говорить о Боге, о Божественном учении? Не только в храме, а и на всяком месте, где придется, где есть души неверующих, не знающих Бога или сомневающихся. Даже если не может верующий доказать своей истинности и опровергнуть речи неверующих, пусть он скажет ясно и определенно христианское учение. И это уже будет победа... Всякое необличенное слово лжи приносит свой плод, а разоблаченное, оно теряет свою силу... Ты, дорогой друг, с тревогой спрашиваешь меня: что будет с нашей Церковью Православной лет через тридцать, когда те верующие, коих теперь немало, умрут, а их сменит нынешнее поколение злых и злобных врагов Церкви Божией? Ведь тогда они пойдут открытым походом на Церковь Божию. А что же мы им противопоставим? – Нужно сказать тебе, дорогой друг, что наряду с врагами Церкви Божией растут, несомненно, и друзья ее; пусть будет их немного, но они сильны своей истиной. Под градом насмешек и притеснений они закаляют свою веру в Бога и преданность Церкви Божией, они встанут на защиту веры и Церкви Православной…
Может пролиться кровь верующих. Пусть она будет семенем, как в первые века христианства, – семенем, из которого вырастет еще крепкая дружина христианская. Для Церкви Христовой не новость гонения и кровь. Все это было. И все это вело не к уничтожению Церкви Православной, а к ее прославлению и распространению. Притом не забывай, дорогой друг, что святые примеры всегда зовут к подражанию. Когда неверующие гонители увидят непоколебимую стойкость православных христиан, запечатленную кровию, тогда некоторые из них, способные к восприятию истины Божией, несомненно, станут в ряды исповедников Христовых, как то было с древними язычниками, которые, видя веру христиан, сами становились из мучителей последователями Христовыми. И много, много может стать новых друзей Христовых из разных стран и народов, которые заменят изменников веры, по слову Самого Спасителя: “Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов” (Мф. 8, 11–12).
Не унывай же, дорогой друг, а будь прежде всего сам верен, даже до смерти, Церкви Божией Православной и усердно молись Господу, да изведет делателей на жатву Свою, потому что жатвы много, а делателей мало (Мф. 9, 37)».
Деятельная защита епископом православия, обличение обновленчества и других расколов, в частности западных ересей, породили среди харьковской интеллигенции смущение и недоумение. Столь энергичная защита казалась ей противоречащей принципам либерализма и свободомыслия, которые многим были дороже и самой истины. Интеллигенция всегда желала быть судьей и оракулом мысли, хотела стоять над противоречиями и спорами, что происходило от отсутствия у нее самой определенных взглядов и убеждений и пренебрежения к жизненному опыту. Представители интеллигенции писали владыке, что не могут понять, отчего он так энергично защищает только тихоновскую Церковь, тогда как они между обновленцами, тихоновцами и другими не видят никакой разницы.
Епископ Онуфрий, отвечая на их недоумения, писал: «...никакой тихоновской или обновленческой Церкви нет. Патриарх Тихон никакой Церкви не основывал и от Церкви Божией не отделялся. Тихоновская Церковь это и есть истинная Церковь Божия, это Русская Поместная Православная Церковь Христова, находящаяся в непрерывном молитвенно‐каноническом единстве со всею Вселенскою Православною Церковью. Русская Поместная Церковь Православная свое теперешнее название “тихоновская” получила от врагов Церкви Божией, обновленческих раскольников, которые бросили эту “кличку” на Святую Церковь для того, чтобы представить ее простодушным как какую‐то секту: это, мол, тихоновщина. Я вовсе не настаивал на том, чтобы меня, епископа Православной Церкви Божией, назвали тихоновцем, но в то же время, я и не отрекаюсь от сего названия, принимаю его как условное.
Если ко мне подойдет верующий и спросит: “Вы тихоновский епископ?” – я не буду возражать, ибо понимаю, что для этого верующего “тихоновец” и “православный” – понятия синонимические, что совершенно верно. Тихоновец – это условное наименование православного христианина: это не кличка, как хотят сего обновленцы и их друзья, а внешний признак православия в наши смутные дни церковные... Вот почему я и говорю вам: если вы не тихоновцы, то и не православные, вы вне Церкви Божией, ибо в пределах СССР Православная Поместная Русская Церковь именно та, которую условно именуют “тихоновской”, и только она.
Мы свидетельствуем, что не порываем с Церковью Божиею и не признаем никакой ереси. Не на себя уповаем, но, будучи грешными, надеемся на молитвы о нас всей Церкви Божией и несем скорби и труды земные, веря, что Милосердный Господь, когда явится во второй раз в неизреченной славе Своей, то воздаст неувядаемый венец славы нам и всем, возлюбившим явление Его. Этого венца славы в жизни загробной от всей души и со всей искренностью молю от Господа и всем вам, дорогие друзья мои, почтившие меня, убогого, своим письмом. Но епископский долг побуждает опять говорить вам, что если не будете принадлежать к той Церкви, каковая именуется тихоновской и которая единственно есть истинная Церковь Божия как Поместная Русская Православная Церковь, то вы окажетесь вне Божественного чертога».
Гонения от властей, злобные нападки лукавых обновленцев, малодушие собратий – злое обстояние было отовсюду. Враги и в самих храмах утесняли православных. Епископ вспоминал об этом периоде своего служения в Харькове: «В небольшом храме служило нас семь епископов и около двадцати пяти клириков; храм был один. Самое главное не в том было, что храм маленький, а православные стеклись со всего большого города и нередко падали в обморок от духоты, а в том было горе всех православных, что возмутительно нагло вел себя самозванный, не избранный верующими и епископом града церковный староста этого храма. Сначала он был унизительно льстив, прежде чем стал старостою, а потом стал вести себя вызывающе: грубил епископам, не подходил демонстративно под благословение к ним... А что делал он с бедным духовенством – священниками и диаконами! – он едва давал им руку, грубил и покрикивал на них, хотя священники иные были пожилые старцы и с высшим образованием, а он – полуграмотный. Мы всё терпели, даже унижения, лишь бы не остаться без храма. Конечно, совестью своею не кривили и не шли ни на какие компромиссы, хотя бы и ради храма, помня твердо, что если мы изменим чистоте православия, то и самый храм перестанет быть православным».
9 декабря 1925 года был арестован патриарший Местоблюститель митрополит Петр (Полянский). В декабре того же года властям удалось организовать в дополнение к обновленческому новый церковный раскол, получивший название григорианского.
Весной 1926 года митрополит Агафангел (Преображенский) сделал заявление о занятии им поста патриаршего Местоблюстителя, и тем самым создалась угроза нового церковного раскола.
Для епископа Онуфрия была очевидна разрушительность этого предприятия, и он выступил с протестом против занятия митрополитом Агафангелом поста Местоблюстителя.
Власти тут же отреагировали на церковную позицию епископа и, по инициативе 6‐го отделения СО ОГПУ во главе с Тучковым, 12 октября 1926 года Харьковское ОГПУ арестовало владыку.
Отвечая на вопросы следователя, епископ Онуфрий сказал:
– До моего ареста в Харькове проживали: епископ Харьковский Константин Дьяков, архиепископ Борис Шипулин, епископ Макарий Кармазин, епископ Стефан Адриашенко, епископ Павел Кратиров, епископ Антоний Панкеев, епископ Феодосий Ващинский; все епископы, кроме епископов Константина и Павла, очутились в городе Харькове вследствие их вызова в город Харьков властями; в частности, я был вызван в город Харьков в начале 1924 года, где и был обязан подпиской о невыезде.
Следователь спросил:
– Гражданин Гагалюк, скажите, кто был инициатором составления письма к митрополиту Агафангелу, содержание этого письма, какие цели вы преследовали этим письмом? Не был ли вами также поднят вопрос о форме управления Русской Церковью – патриаршестве или коллегиальной форме? В частности, вы, какую форму считаете более приемлемой в России – патриаршество или коллегиальную форму?
Владыка ответил:
– Из города Перми почтою было прислано от митрополита Агафангела обращение на имя некоторых Харьковских епископов – архиепископа Бориса, епископа Константина и на мое имя. Митрополит Агафангел призывал нас и всех православных епископов, и духовенство, и верующих признать его, митрополита Агафангела, патриаршим Местоблюстителем. Из взаимной беседы друг с другом мы, епископы Харьковские, твердо решили признавать патриаршим Местоблюстителем лишь митрополита Петра; выступление митрополита Агафангела мы признали весьма вредным для Церкви Православной – расколом, о чем и написали ему в форме братского, дружеского письма, прося его не устраивать церковной смуты. Мы также написали митрополиту Агафангелу, что канонической формой управления в нашей Православной Русской Церкви является патриаршество или вообще единоличное управление, согласно 34‐му апостольскому правилу, а коллегиальная форма правления в Церкви не может быть признана нами, как неканоническая.
Епископ Онуфрий был доставлен из Харькова в Москву в Бутырскую тюрьму. В конце октября 1926 года секретарь 6‐го отделения СО ОГПУ Якимова, рассмотрев «дело» епископа, составила заключение: «...Епископ Онуфрий и... среди церковников и верующих города Харькова распространяли воззвание под названием “Открытое письмо” контрреволюционного содержания, в котором призывали верующих беречь патриаршую форму правления Церковью и не допускать коллегиального управления. Свои заветы мотивировали тем, что патриаршая форма в большей степени, чем коллегиальная, защищает Церковь от давящего и настойчивого вмешательства в церковные дела со стороны советской власти и тогда, когда советская власть не объявляет себя открытым врагом Церкви, и тогда, когда советская власть открыто объявляет себя врагом Церкви. Коллегиальное управление приносит только вред Церкви, лишая ее устойчивости, так как советская власть постарается подобрать в коллегию лиц, продающих Церковь и правду Христову и оптом и в розницу».
На основании этого заключения 5 ноября 1926 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило епископа Онуфрия к трем годам ссылки на Урал.
«Из шумного города Харькова переселился я в глухое село, – писал владыка. – Да будет воля Божия! Хотя и скорбно на душе, но нужно оставить думы о харьковских друзьях. Придется ли увидеться с ними? – сие от Господа. Во всяком случае, увидимся непременно в жизни загробной... А теперь нужно работать Богу и людям в тех условиях, в каких Господь определил мне жить...
Какой смысл моего пребывания в селе Кудымкар? Здесь я как бы в расширенной тюрьме. Служить я не могу, проповедовать в храме нельзя; приезжать ко мне не разрешают, стесняют принимать верующих... Почему же Господь это попускает? Не лучше ли было оставить меня в Харькове, где я мог широко сравнительно делать святое Божие дело, где я служил, благовествовал и в храме, и по домам, оттуда управлял широкой епархией Одесской? Зачем и другие епископы в узах?..
А между тем неверие усиленно работает, а вместе с ним рука об руку стараются разрушить Церковь Божию, очевидно не веря в ее неодолимость, многочисленные еретики и раскольники: обновленцы, самосвяты, лубенцы, последователи ВВЦС, и старые сектанты: баптисты, хлысты, и еще более их – древние католики, протестанты... Так нужны теперь работники на ниве Христовой, а их усиленно, искусственно уменьшают!.. Такова воля Божия или, вернее, попущение Божие. Ведь еще во времена апостольские Господь попускал быть в узах в Кесарии два года, в Риме тоже два года великому благовестнику апостолу Павлу, а как дорого было проповедничество и миссионерские путешествия по Церкви великого апостола!.. Так, значит, угодно было Богу!.. Не показывает ли Господь современным язычникам‐богоборцам, что при максимуме их усилий и при связанности проповедников веры все же никто не одолеет Церкви Божией и чтобы поняли все противники Божии, что вера наша утверждается не на мудрости человеческой, но на силе Божией (1 Кор. 2, 5). Не оглядываться мне нужно назад, что было со мною, – оно во мне осталось, а работать нужно Богу и людям здесь, в глухом селе, почти в тюрьме: служитель Христов должен нести свет Христов и в темницы, как это делали апостолы. Сказать слово веры своему случайному собеседнику, приголубить ребенка, открыто исповедовать и защищать свою веру, несмотря на насмешки и гонения неверующих, – все это значит нести свет Христов в окружающую жизнь. Есть и другие дела у меня здесь: в селе Кудымкаре – храм Божий православный, и я имею возможность ходить и молиться в нем. Какое это великое утешение! Могу причащаться Святых Христовых Таин – а что выше и отраднее сего!
Здесь, в уединении, вдали от шума, можно больше подумать о душе, о Боге. Я недавно писал одному славному юноше, христианину, что село Кудымкар – это пустынька для меня, где нужно мне поразмыслить усерднее о своих грехах и приблизиться к Господу Богу. В общении с Богом – искренней, горячей молитве – какое это утешение для христианина!.. О, если бы Милосердный Господь призрел на меня, многогрешного, унылого, гордого, блудного, гневливого, ленивого, полного всяких беззаконий, дал мне искренне чувствовать раскаяние и стремление к Нему, Господу Богу, от всего сердца и от всего усердия!.. Как ни отдалено село Кудымкар от крупных центров (ближайший город большой – Пермь – около двухсот верст), есть еще несравненно более глухие места. Ходят слухи, что могут меня... сослать в другое далекое, пустынное место. Что же! Да будет и на сие воля Господня, если так угодно Богу!..
Верю непоколебимо, что Господь печется о всех нас, ибо неложно слово Спасителя: “и волос с головы вашей не пропадет” (Лк. 21, 18), – и другое утешительное речение Господне: “Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше” (Ин. 15, 20)».
В окрестностях, где поселился епископ, было мало верующих людей, и после огромной харьковской паствы он оказался миссионером в обстановке торжества воинствующего безбожия. «Уже второй месяц живу в селе Кудымкар, – писал владыка. – Несколько раз заходили ко мне в келью для духовной беседы люди. Между ними были крестьянки соседней деревушки... – Мария и Екатерина, обе весьма религиозные, еще не пожилые. Рассказывали они нам... о вере в Бога в деревне их. Твердых в вере борцов религиозных против неверия в деревне их только двое. Когда три года тому назад учительница собрала женщин‐матерей этой деревушки... и предложила, чтобы дети их поснимали с шеи свои крестики... все, до двадцати женщин, приняли это предложение; лишь они двое – Мария и Екатерина – энергично протестовали, и стало по их желанию: детей пока оставили в покое. Конечно, атеистка‐учительница неохотно пошла тут на уступки, так как сделать безбожным народ наш – край всех стремлений неверующих. Это Господь здесь не попускает вредному велению, видя огненную ревность, скорбь и слезы у христианок‐матерей (у обеих дети учатся в школе).
Мои собеседницы‐христианки из деревушки этой говорили: никто из деревни в церковь не ходит (церковь православная в версте). Смеются над нами! Даже старики уговаривают детишек не слушать нас, матерей, когда мы зовем ребят своих в храм Божий. Но мы не обращаем внимания на эти безумные речи стариков и свое святое дело делаем... Я им тоже советовал: сами твердо стойте в вере православной и детишек своих учите молитвам, чаще в храм водите, заставляйте читать слово Божие. А неверующих соседей своих не бойтесь, но еще призывайте их к вере. Знайте, что ваше дело имеет великое значение не только для вас лично – для спасения души вашей, но и для мира и покоя и благополучия внешнего: этой верою своею привлекаете вы благоволение Божие и на всех людей. Если вера иссякнет в нас, то и Спаситель наш и Бог отвернется от нас.
Однако, несомненно, эти две простые, малограмотные крестьянки, стоящие на страже веры среди окружающего их неверия, делают великое дело. Припоминаю и другие села, деревни и города, где мне пришлось жить или бывать. Всюду при множестве людей неверующих или равнодушных есть несколько верных рабов Божиих, твердых, неподкупных ни на лесть, ни на обман, ни на запугивания. Они открыто исповедуют Бога, заботятся о храмах Божиих, борются с неверием и разными ересями и расколами. И таких добрых Божиих рабов немало в стране нашей: во всяком глухом селе или деревушке есть свои Марии и Екатерины. Они представляют собою ядро христианское среди окружающих маловерных или вовсе неверующих...
Об эту веру таких усердных и верных христиан, как Мария и Екатерина, разбиваются все мутные воды безбожия. Как ни яростны мутные волны моря, им не опрокинуть горящих маяков...»
Во время архиерейского служения в Кривом Роге и в Харькове и в особенности в заключении и ссылке для епископа все ясней становилось, сколь велико значение пастырского служения, которое, конечно же, не должно ограничиваться стенами храма. Находясь в ссылке в селе Кудымкар, в мае 1927 года епископ Онуфрий писал: «И проповедь у нас слабая! Говорю о здешних местах. А ведь ничего особенного не требуется. Пересказал своими словами чужую проповедь – и это уже хорошо... Конечно, если не ходят в храмы Божии здешние православные, они как бы закрыты для них. В таком случае нужно говорить о Боге, о праздниках, о Таинствах, о христианской жизни, призывая к посещению святых храмов, к святому говению и поучая о прочем, ходя по домам своих прихожан, – терпеливо, настойчиво, с любовью. Пусть будут насмешки, даже ропот и угрозы – не обращать пастырю на это все внимания...
В той или иной мере эту любовь и самоотречение проявляют и современные пастыри православные и через то уловляют в сети Христовы равнодушных и даже враждебных к вере... Против такой пастырской настойчивости иногда возражают даже верные и честные служители Церкви. Так, одно почтенное духовное лицо мне возражало: “Я с вами совершенно несогласен. По‐вашему следует, что священник и даже епископ должен сам идти к этим грубым людям. Это значит навязываться, когда тебя вовсе не просят и даже не желают! Нет, я пойду к тем, кто меня сам пригласит!.. Стану я напрашиваться к этим насмешливым! Еще издеваться будут, а то и выгонят! Не желаю. Не я в них нуждаюсь, а они во мне. Вот пусть приедут за мною, попросят – я поеду к ним!.. А самому идти унижаться, чуть ли не просить их, чтобы они меня приняли, не хочу! С какой стати я буду ронять свой духовный авторитет! Я вам советую: не ронять своего сана, а то вы готовы бежать за десятки верст и идти в хаты, когда вас о том вовсе не просят и, может быть, совсем не желают!..”
Не знаю, как влияют на тебя, дорогой друг, такие речи, но в моей душе они вызывают тяжелое чувство... И так может говорить православный служитель Церкви Божией, апостол святой веры... Это – бессердечный человек, которому вовсе нет дела до души верующих! Для него как бы не существуют овцы его стада!.. Как они живут, как спасают свою душу, ему не интересно. Если среди них находятся хорошие, послушные, он охотно к ним пойдет, а к бедным, несчастным, заблудшим он не идет и почти... презирает их. И слышатся слова Спасителя: “не здоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы. Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию” (Мф. 9, 12–13). Нет у подобных пастырей именно сострадания, снисхождения, любви к людям... Таким путем не увеличишь числа верующих в своем приходе. Дай Господи, чтобы удержать тех, кто есть. Между тем назначение пастырей – апостольское. Не только утвердить верующих, но и поддержать слабых, привести к Богу и неверных. А без собственного вхождения к неверующим или колеблющимся, без жалости к ним ничего не успеешь... Ждать же, чтобы они сами пришли к нам, православным пастырям, – неразумно. В особенности теперь, когда специально стараются отвлечь от Церкви Божией и удержать в безбожии. Возмущают душу мою и речи о том, что ревностный пастырь, сам идущий к нежелающим его, подрывает свой авторитет. Это совершенно языческое понимание...
В отыскивании заблудших, во вторжении к грешникам со стороны пастыря Христова не унижение, а величие души труженика, старающегося идти по стопам Самого Пастыреначальника и Бога... Нет, пока на земле Церковь Божия, а она всегда будет, пока Господу угодно, чтобы существовал сей мир, пастыри Христовы, как продолжатели апостольского дела на земле, не могут и не должны отходить от своего величайшего и ответственнейшего служения приводить всех людей к Церкви Божией, к Богу, всячески снисходя к немощам людским, будучи, по апостолу, для всех всем (1 Кор. 9, 22), чтобы спасти по крайней мере нескольких, если не всех. А теперь, когда так нагло подняли свою голову безбожие и всякие расколы и ереси и объявляют свои права на каждую человеческую душу, особенно необходимо трудиться всем нам, пастырям, посланникам Христа Спасителя, помня слова, сказанные Им после Его преславного воскресения из мертвых святым апостолам, а в лице их всем православным святителям и пастырям: “Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь” (Мф. 28, 18–20)».
Эта ревность о пастве, спасении человеческих душ скоро была замечена безбожными властями, наблюдавшими через своих агентов за жизнью владыки в ссылке, и 25 июня 1927 года, в день тезоименитства епископа Онуфрия, власти устроили у него обыск.
Владыка об этом писал: «Ко дню моего Ангела приехали ко мне из далекого Харькова две гостьи, мои духовные дочери и вместе мои благодетельницы: одна – монахиня пятидесяти с лишком лет, другая – будущая послушница, около сорока лет. Они поместились в сторожке при церкви, где живут сторожихи‐монахини. Но гостьи мои, по моей оплошности, не зарегистрировались, а это следовало сделать, так как я считаюсь ссыльным, а они не скрывали, что приехали поздравить меня ко дню Ангела. Ночью накануне моего праздника их арестовали и продержали в тюрьме около месяца, хотя при обыске ничего не нашли ни у меня, ни у них…
В день моего Ангела в доме священника, где обедал я с другими верующими, моими гостями, сделали обыск как раз во время обеда... Потом, после допроса, запретили мне читать и петь в церкви. В конце же готово было подняться новое тяжкое испытание для меня... Хотелось сказать слово ропота, но примирился я, грешный, с волею Божией. И вот Господь сразу же все отнял: дело травли кончилось, узники получили свободу, я просветлел душою и телом… Виновником ареста моих гостей общий голос признает местного священника. А он считается православным; со мной он вежлив и весел, в его доме я столуюсь, и в течение полугода моего знакомства с ним он воспринял от меня, грешного, немало добра материального и духовной поддержки. Меня чрезвычайно поразило это явление, которому нельзя не верить. Однако, дорогой друг, я был душевно потрясен другим предательством со стороны этого же лица, именно – обыском в том доме, где я обедал со своими гостями, а он – хозяин этого дома... Когда неожиданно окружили комнату, где мы мирно и вместе как‐то печально (в связи с арестом моих гостей) сидели, и начали обыск, я, привыкший к обыскам и ни в чем не повинный политически, был страшно взволнован от этого гадливого и наглого попрания человеческого (моего) достоинства, не со стороны делавших обыск, а со стороны предателя. Подумай, дорогой друг, до чего мы дожили: хозяин предает своего гостя, священник – своего епископа, в день его Ангела, в ссылке, когда он так нуждается хотя бы в маленькой поддержке со стороны тех, кому он верит и считает своими по духу!..
Конечно, предательство в отношении меня ничем не кончилось, как и все обыски, ибо у меня никогда ничего не было против предержащей власти. Но гнусное и низкое иудино окаянство было на деле. Господи, да что же это такое?! Что сталось с христианами и даже священниками! При всем желании быть снисходительным к людям, я уже не мог с того дня переступить порог этого дома, где так нагло и цинично предан был человек – христианин – епископ! Я не буду судить предателя, не питаю к нему никакой вражды, считаю по‐прежнему православным, отдал все на суд Божий, только уже дружеских отношений у меня нет, а лишь обычные, официальные, но не злобные...»
В то время как гостьи епископа сидели в тюрьме, в местной газете появилась статья без подписи, в которой было написано, что к ссыльному православному епископу Онуфрию приехали его любовницы, и целую ночь он развлекался с ними, превратив церковный дом в гарем. Как ни был кроток и смирен епископ, но в данном случае он решил не оставлять злобной клеветы без ответа. Написав опровержение, он отправился к местному прокурору с требованием указать имя автора клеветнической статьи и обязать редактора газеты опубликовать опровержение. Прокурор принял епископа подчеркнуто насмешливо и не стал читать опровержение, заявив, что он вполне доверяет авторам советских газет.
Известие о новой церковной смуте, о том, что часть архиереев вышла из подчинения митрополиту Сергию, застало епископа в ссылке в глухой деревне Романово. Владыка тяжело переживал это церковное смятение, ему трудно было из ссылки вникнуть в те соображения, размышления и переживания, которые волновали тогда многих святителей, для которых действия митрополита Сергия виделись далеко не бесспорными.
В октябре 1928 года епископ Онуфрий был арестован и отправлен в Тобольск. На пути его ждало тяжкое искушение. «Я находился на пристани в Тюмени, поджидая пароход, – рассказывал он впоследствии. – Ко мне подошел человек и спросил: “Вы епископ православный?” Я ответил. Он протянул руку за милостыней. Я хотел дать ему денег, но вдруг почувствовал сильный удар в левую руку и жгучую боль. Оглянувшись, я увидел, что тот человек убегает. Заметив на руке кровь, я пошел на пароход, где промыли и забинтовали рану мою на руке. Успокоившись, я подумал: смерть моя нужна врагам моим, и только они могли подстроить это покушение, но Господь спас меня».
В Тобольске епископ пробыл три месяца. Об этом времени и о последующем своем путешествии в качестве узника владыка писал: «Пишу из глубокого северного Сургута, куда прибыл я в новое место своей ссылки 11 февраля 1929 года, ночью.
Предчувствия мои оправдались: в городе Тобольске, при сравнительно внешнем благополучии, всякий день ожидал я, что меня возьмут и сошлют дальше. Это случилось 30 января вечером. Произвели у меня на квартире обыск и, ничего не найдя, повели в тобольскую тюрьму. Из культурной обстановки – опять в атмосферу тюремной жизни с ее тяжелым режимом, холодом, голодом, грязью, а для меня еще и неудобствами в пище, которая подавалась мясной. Но Господь утешил меня, и я благодушно перенес все эти невзгоды. В числе соузников моих оказалось несколько крестьян и среди них их священник православный, старец лет шестидесяти... В беседе с крестьянами я сказал им при священнике: вот батюшка с вами всюду – и в церкви, и на полях, и по домам, и... в тюрьме...
Да, наши православные пастыри в большинстве делят горе со своими чадами. Почти всегда, когда приходилось мне быть или ехать в тюрьмы, подобно тем, где я был в числе арестантов, видел я фигуру священника, или инока, или епископа...
В день своей архиерейской хиротонии, 4 февраля, я выехал под конвоем в Сургут: семьсот верст от Тобольска. Ехать было холодно, тесно, но я терпел имени Его ради... Всюду на остановках казенных, где мы грелись от мороза, отдыхали и ели, – всюду были в домах святые иконы. В одном месте утешил меня мальчик лет трех, Саша, с крестом на груди. И только в селе Самарове я не нашел в хате, где мы останавливались, святой иконы. Семья очевидно не религиозная. Я наблюдал за ними. Отец и старший сын (активный безбожник) производили неопределенное впечатление. Мальчик лет тринадцати, Андрюша, оказался с душой испорченной, подлой: он проследил ссыльного еврея из той же партии, где был и я, когда тот незаметно вышел за ворота, где его поджидали друзья, проживавшие в этом селе – Самарове, подслушал его разговор, дал знать конвойному и все ему рассказал. У ребенка не нашлось сострадания к несчастному ссыльному. Мать – необыкновенно грубая и даже сальная. Она не преминула изругать меня, хотя я был ее гостем и в скорбном настроении арестанта. За малую крошку хлеба, стакан чая и молока она потребовала два рубля, тогда как это стоило не более тридцати копеек.
Воистину, потеряет человек Бога – потеряет и любовь, сострадание, скромность, станет жестоким, грубым, жадным зверем... Господь да вразумит этих несчастных! Я прибыл в Сургут. Господь помог мне здесь устроиться. Вижу милость Божию к себе. Посетил убогий храм сургутский, говел, причащался Святых Христовых Таин».
Лишенный гражданскими властями возможности проповедовать в храмах, во время жизни в ссылке епископ принялся за составление письменных работ. В Кудымкаре он написал двести восемьдесят две статьи на духовные темы, во время ссылки в Тобольск и Сургут – шестьдесят одну статью. Сам епископ о церковном писательстве говорил: «На епископах преимущественно лежит долг проповедовать слово Божие. Почти все мы исполняем это и усердно возвещаем Царство Христово на земле – но устно. Подвиг духовного писательства несут из нас лишь немногие. Конечно, устная проповедь имеет главное значение: произносимая с воодушевлением и убеждением перед большой аудиторией до тысячи молящихся, иногда она оказывает большое влияние на слушателей, направляя их к Богу и доброй христианской жизни. Но и самое красноречивое слово скоро забывается. Притом часто является сильное желание у верующего почитать у себя на дому что‐либо из области веры. В этом отношении необходимо письменное наставление.
Если устное слово возбуждает веру у молящихся, то письменное усугубляет ее, утверждает. О важности письменной проповеди апостол славянских христиан Кирилл говорил: “Проповедовать только устно – все равно что писать на песке”.
Мне могут возразить, что нельзя отрицать громадное значение церковного писательства, но это могло иметь место прежде, когда к услугам Православной Церкви было книгопечатание, а теперь, когда нельзя напечатать ничего, касающегося православной веры, можно ли говорить о письменности духовной?
На это я отвечаю: и в настоящее время письменность церковная очень важна и необходима не менее, чем прежде. Епископ может писать проповеди свои, трактаты по вопросам веры, богословские сочинения, конечно лишь в количестве пяти или десяти экземпляров на пишущей машинке, в крайнем случае, в виде одной своей рукописи...
И даже такой ограниченный до последнего минимума труд епископа весьма полезен. Прежде всего самому автору он дает руководство для дальнейшего учительства: прочитывая на досуге свой труд, он вспоминает прошлое и, при случае, о нем говорит и своей пастве. Жизнь теперь очень сложна и текуча, и в течение года можно забыть очень важные моменты церковные…
Рукопись свою можно дать для прочтения верным христианам, которые были бы способны и других научить, и таким путем наше поучение станет известно многим.
Наконец, преемники наши в письменном учительстве нашем найдут для себя повод к собственным трудам: что нужно добавить и разъяснить, о чем по немощи мы забыли сказать, войдут в труд наш, как мы сами вошли в труд наших предшественников.
Церковное писательство для епископа теперь гораздо нужнее, чем прежде, при возможности печатать богословские труды. Тогда мы могли пользоваться произведениями наших выдающихся церковных писателей, выписывать их, распространять их. Теперь, когда возникают вопросы текущей жизни, мы обязаны сами отвечать на них, руководствуясь святой Библией, правилами каноническими и творениями святых отцов, насколько их имеем, обращаясь наипаче с горячей молитвой к Всевышнему Духу Утешителю, просветившему бескнижных апостолов...»
Осенью 1929 года епископ получил разрешение покинуть место ссылки и бесконвойно следовать в Тобольск. На пути в Тобольск в селе Уват он был арестован, но вскоре освобожден и в ноябре 1929 года прибыл в Тобольск. Между тем 12 октября закончилась его трехлетняя ссылка, и 14 октября Особое Совещание при Коллегии ОГПУ вынесло постановление: «По отбытии срока наказания Гагалюка... лишить права проживания в Москве, Ленинграде, Ростове‐на‐Дону, означенных округах и УССР с прикреплением к определенному месту жительства сроком на три года».
Епископ был вызван в ОГПУ, где ему предложили выбрать место для жительства. Владыка выбрал город Старый Оскол в Курской области. В соответствии с этим выбором в ноябре 1929 года митрополит Сергий назначил его епископом Старооскольским, образовав ради него по тесным обстоятельствам времени новую кафедру. В декабре 1929 года епископ Онуфрий прибыл в Старый Оскол и вступил в управление епархией.
В Старом Осколе к тому времени у православных оставалось шесть городских и семь слободских церквей вблизи города, но власти разрешили служить епископу только в одном храме. Обновленцы к этому времени захватили большинство храмов, и приезд в город православного епископа оказался тяжелым для них ударом. Все православные устремились к владыке, первая же его служба в храме привлекла сердца многих.
Хотя выезд из города епископу был запрещен, это не помешало ему успешно управлять епархией. Епархиальной канцелярии у него не было, и всех посетителей – священнослужителей и мирян – он принимал в небольшой комнатке, где жил. У него всегда были посетители, желавшие поговорить с ним лично, приезжали люди и из других областей – он всех принимал с охотою и любовью, в меру своих сил стараясь разрешить их вопросы и удовлетворить просьбы. Результатом его деятельности явилось почти полное исчезновение обновленчества в пределах епархии и увеличение числа действующих православных храмов. Только за три первых месяца пребывания его на кафедре – с декабря 1929‐го по март 1930 года – количество православных храмов в епархии возросло с двадцати до ста шестидесяти одного. Однако гонения и притеснения в это время не прекращались.
В 1932 году один из его друзей‐священнослужителей написал епископу, что решил прекратить дело проповеди и ограничиться одним богослужением, а то «иной недобрый человек извратит мои слова, и я могу пострадать! Когда увижу хоть некоторое успокоение, тогда продолжу дело благовествования».
Епископ Онуфрий ответил ему: «Никак не могу согласиться с твоими доводами. Долг святителя и пастыря Церкви – благовествовать день от дня спасение Бога нашего: и в дни мира, и в дни бурь церковных, в храме, в доме, в темнице. Послушай, как объясняет святитель Иоанн Златоуст слово святого апостола Павла: “проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием” (2 Тим. 4, 2). Что значит “настой во время и не во время”? То есть не назначай определенного времени, пусть будет у тебя всегда время для этого, а не только во время мира, спокойствия или сидения в церкви; хотя бы ты был в опасности, хотя бы в темнице, хотя бы в узах, хотя бы готовился идти на смерть – и в это время не переставай обличать, вразумлять. Тогда и благовременно делать обличение, когда оно может иметь успех.
Тогда наша проповедь дает плод, когда люди ее жаждут. В дни скорби, смущений самое простое искреннее слово пастыря приносит сторичный плод.
На днях исполнилось три года моего святительского служения в Старооскольской епархии. С первого вступительного слова... и поныне всякий воскресный праздничный день за Божественной литургией и в воскресные вечерни я говорил поучения своей пастве. Делал это я не без смущения, волнений и страхов. Но Господь Милосердный хранил меня, и верю: сохранит и впредь.
А если угодно будет Господу – приму и скорби за слово истины.
Если мы умолкнем, то кто будет говорить? На проповедь Царства Божия послал нас Сам Господь. И горе нам, если мы не благовествуем! Мы становимся в таком случае в ряды противников Божиих. Вот почему и святой апостол Павел, убеждая своего ученика епископа Тимофея неустанно проповедовать слово Божие, заклинает его Христом Богом совершать дело благовестника.
В твоих словах, дорогой друг, вижу одну лишь справедливую мысль – нужно остерегаться проповеднику Христову злых людей, искажающих наши слова. Сам Христос Спаситель поучает нас быть осторожными: “Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас...” (Мф. 10, 16–17). Поэтому нам говорить нужно лишь о Христе Спасителе и Его учении, не касаясь ничего постороннего. Уклоняться же от христианской проповеди мы не можем. А от лукавых людей оградить нас силен лишь Господь, в волю Которого отдадим мы свой труд и всю свою жизнь.
Попросим со смирением и усердием Пастыреначальника, чтобы Он дал нам силы многие пасти овец Его и тем выразить Ему свою любовь и свое попечение о малых сих...
“Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал” (Ин. 15, 16)».
В 1933 году исполнилось десять лет архиерейского служения епископа Онуфрия, почти половину которого он провел в тюрьмах и ссылках. Подводя итог этому служению, он писал: «Десять лет архиерейского служения! В этот священный для меня день душа моя прежде всего устремляется к Благодеющему Богу, Который сохранил меня в сонме святителей Церкви, ближайших друзей Своих. О, как высока эта честь – быть другом Христовым, продолжателем дела Спасителя на земле и Его святых апостолов, ибо епископ и призывается к этому при хиротонии своей архиерейской.
Много соблазнов, страхов, волнений, опасностей пережил я за эти годы. Но от всех их избавил меня Господь. Скажу ли с великим апостолом: “И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства” (2 Тим. 4, 18)?
Что дал мне десятилетний стаж архиерейский?
Думаю, что я получил некоторый духовный опыт в отношении людей: за эти годы тысячи людей прошли передо мной – в Киеве, Елисаветграде, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Перми, Кудымкаре, Тобольске, Старом Осколе. Много разных характеров видел я. И злобу, и ожесточение, и предательство – и смирение, покаяние, умиление, крепкую веру в Бога, милосердие к несчастным я наблюдал...
Опыт жизни научил меня узнавать, кто враг Церкви и кто ее верный сын... Годы моего архиерейства прошли в чрезвычайно сложной церковной обстановке. Первые дни моего святительства совпали с наиболее наглыми, циничными насилиями обновленцев над Церковью Божией.
Иоанникиевщина, лубенщина, григорианский раскол, неверные шаги митрополита Агафангела, иосифлянский раскол, в среде которого есть немало идейных нестроений. Все это волновало, всем этим болел я как епископ, боялся за верующих, боролся, как мог, с раздирателями Христова хитона.
Скорби тюрем и ссылок – незначительны в сравнении со скорбями церковными... Как я удержался от этих расколов при своей боязливости и неопытности? Только по милости Божией! Очевидно, были и добрые люди, за молитвы которых Господь сжалился надо мною и оставил в ограде Своей Церкви…
Внешнее положение Церкви от нас не зависит, и мы не дадим за сие отчета перед Богом – а дадим отчет Судии в том, что могли сделать и не сделали.
Отдавая все на волю Божию, мы, святители Церкви Православной, должны со всем усердием служить Богу и людям каждый “тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией” (1 Пет. 4, 10)».
Скромный вид епископа, его аскетичная внешность, ласковые глаза, в которых отражались глубокая вера и любовь к Богу и ближним, его вдохновенные проповеди, призывающие людей к покаянию, к прощению обид, к верности Святой Православной Церкви, вызывали в сердцах верующих глубокую любовь к святителю, почитание и благодарность.
Старооскольцы вскоре привыкли, что владыка с первого дня приезда в их город служит в храме ежедневно, и утром и вечером, и всякий раз проповедует, и они спешили на службу, чтобы почаще быть в храме с епископом.
В марте 1933 года ОГПУ арестовало епископа. Две недели он сидел в старооскольской тюрьме, а затем был отправлен в тюрьму в Воронеж. В июне уполномоченный ОГПУ по Центральной Черноземной области составил по «делу» епископа Онуфрия заключение: «За время пребывания в городе Старом Осколе епископ Онуфрий вел себя, как сторонник “ИПЦ”, он всегда окружал себя антисоветским монашествующим элементом и стремился в глазах наиболее фанатичных крестьян из числа верующих показать себя как мученика за православную веру и гонимого за это советской властью. Принимая во внимание, что епископу Онуфрию срок ограничения окончился... полагал бы возбудить ходатайство перед СПО ОГПУ о пересмотре дела епископа Онуфрия с предложением: лишить его права проживания в центральных городах с прикреплением к определенному местожительству».
От начальства на это предложение последовал ответ: «Если есть данные о его активной контрреволюционной работе – пусть привлекают по новому делу. По этим данным продлить срок мы не можем».
Данных, однако, не нашлось, и епископ в июне 1933 года был освобожден. Выйдя из заключения, он был назначен на Курскую кафедру и возведен в сан архиепископа.
С огромной радостью и любовью встретили его православные в Курске. Власти сразу же стали преследовать архиепископа, чиня ему всякие стеснения и неудобства, – из всех храмов ему было разрешено служить только в одном, причем, видя, что архиерей нисколько не смущен этим обстоятельством и даже как бы и не замечает его, его перевели в меньший, а затем и в еще меньший. Безбожники не могли запретить святителю говорить проповеди и окормлять духовно паству, но они делали все, чтобы его слышало как можно меньше людей. Как и в Старом Осколе, ему были запрещены поездки по епархии для посещения сельских приходов. Ему так же, как и в Старом Осколе, пришлось ограничить свою архипастырскую деятельность пределами города, проповедовать в одном храме, принимать всех посетителей у себя дома, но так же, как и раньше, он много писал: в Курске им была написана тридцать одна статья на религиозно‐богословские темы.
В Курске мать архиепископа Онуфрия, которая жила с ним в одном доме, пожелала принять монашеский постриг и была пострижена в монашество с именем Наталия.
Жил владыка очень скромно, аскетом, никогда не заботился о хлебе насущном, будучи вполне доволен тем, что посылал Господь. Не было у него ни удобств в квартире, ни излишка в одежде, а только самое необходимое. Видя его полную нестяжательность, верующие сами старались снабдить его всем нужным для жизни. Зная о его благотворительности, они давали ему деньги, которые он раздавал нуждающимся, ничего не оставляя для себя. У его дома постоянно толпились нищие и обездоленные, нуждающиеся в помощи и поддержке.
Однажды зимой уже под вечер к архиепископу пришел больной, изнуренный голодом преклонных лет священник, только что освободившийся из тюрьмы. Он был одет в летний, весь в дырах и заплатах подрясник и дрожал от холода.
Архиепископ тотчас велел приготовить для священника баню и дать ему чистое белье. Затем он пригласил его к себе, накормил и уложил спать на своей кровати, сам устроившись на кушетке. Утром, отправляясь в село, священник надел свой ветхий, выстиранный и высушенный за ночь подрясник и стал прощаться с владыкой. Архиепископ, увидев его в такой одежде, сказал, что он никак не может отпустить его на мороз в таком виде, и велел своим домашним принести какое‐нибудь теплое пальто или шубу, но таковых не оказалось. Опечаленный этим обстоятельством, ища, чем помочь священнику, он вспомнил, что верующие недавно подарили ему новую теплую, на беличьем меху рясу. Он попросил ее принести, и сам надел рясу на старика‐священника и благословил его в путь. Весь в слезах, обрадованный, уходил священник.
После его ухода мать архиерея, монахиня Наталия, заметила владыке, что он лишился единственной теплой рясы, так необходимой ему самому. В ответ архиепископ, улыбнувшись, сказал: «Господь по милости Своей пошлет мне другую».
Бывали иногда и курьезные случаи. К нему однажды пришел уволенный за пьянство бывший сотрудник ОГПУ. Он пришел ночью и, представившись уполномоченным отдела государственной безопасности, не предъявляя никаких документов, сказал, что пришел делать обыск, и потребовал, чтобы ему указали, где лежат деньги. Архиепископ молча показал ему на ящик письменного стола. Взяв находившиеся в столе деньги – несколько сот рублей, он потребовал под угрозой смерти, чтобы ни архиепископ, ни его домашние никому не говорили о его посещении и ушел, ничего более не взяв.
После ухода грабителя присутствовавшая при этом мать архиепископа стала настаивать, чтобы он немедленно заявил о грабеже в милицию, так как подобный случай мог повториться, на что архиепископ ответил: «Я знаю, что этот человек уже не состоит в числе сотрудников названного им учреждения, он самозванец и грабитель. Но если я заявлю о его проделке, он будет арестован и судим и, может быть, расстрелян. А я не хочу его гибели. Может быть, он еще устыдится содеянного и покается в своих грехах».
В феврале 1935 года исполнилось двенадцать лет святительского служения архиепископа Онуфрия. В одном из своих писем владыка писал: «Двенадцать лет святительства... Я служил ныне, хотя чувствовал себя больным. Желал быть в общении со Спасителем и Богом. За Божественной литургией читались наставления Господа Иисуса Христа семидесяти апостолам при отправлении их на проповедь. Я обратил внимание на слова Спасителя: “В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему; и если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится”[Лк. 10, 5].
Мы должны нести свет Христов всем людям. Как отнесутся к нам – с любовью или враждебно, нас это не касается. Мы исполняем служение проповедников Христовых.
Я радуюсь, что Господь дал мне силы проповедовать людям о Христе, приводить их ко Христу Богочеловеку, в Котором только могут найти люди истинное счастье и цель жизни – обрести надежный покой и вечную радость...»
23 июля 1935 года власти арестовали архиепископа Онуфрия и служивших с ним в Спасской церкви игумена Мартиниана (Феоктистова), протоиерея Ипполита Красновского, священника Виктора Каракулина, диакона Василия Гнездилова и псаломщика Александра Вязьмина. Власти обвинили архиепископа в том, что он слишком часто обращался к верующим со словом проповеди, что благословил совершить несколько постригов в монашество, среди которых был совершен постриг в мантию и его матери, а также в том, что он оказывал материальную помощь нуждающимся, и в частности освободившимся из заключения священнослужителям. Во время обыска у владыки были изъяты сделанные им выписки из книг святых отцов и духовных писателей, содержание которых было сочтено следователями контрреволюционным.
– Расскажите, – спросил следователь, – отображают ли эти записи ваши личные взгляды?
– Обнаруженные у меня при обыске мои личные записи – это выдержки из разных произведений. Например: «...Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом, цивилизация завершается одичанием, свобода – деспотизмом и рабством. Совлекши с себя образ Божий, человек неминуемо совлечет – уже совлекает с себя, и образ человеческий и возревнует об образе зверином». – «Если враги хотят от нас чести и славы – дадим им; если хотят злата и серебра – дадим и это; но за имя Христово, за веру православную нам подобает душу свою положить и кровь пролить». – «...Диавол всегда ратоборствует против Церкви, наносит ей иногда тяжкие удары, сказывающиеся в богоотступничестве, ересях и расколах, но никогда не побеждает ее и не победит. Есть исконная брань против Церкви, есть тяжкие скорби для пастырей и для всех верующих, но нет победы над Церковью». В основном эти выписки, – сказал владыка, – отражают мои личные взгляды. Причем они, по моему мнению, ничего, кроме религиозных взглядов, из себя не представляют.
Особенно долго следователь расспрашивал о проповедях, содержание которых лжесвидетели по обыкновению передавали превратно.
– Следствию известно, что вы, занимая положение областного архиерея, проводили контрреволюционную деятельность и использовали в этом направлении, в частности, церковные проповеди. Признаете ли себя в этом виновным?
– Нет, я этого не делал, и виновным себя в ведении контрреволюционной деятельности и, в частности, в использовании в контрреволюционных целях церковных проповедей я себя не признаю.
– Вы говорили в одной из своих проповедей, в частности в ноябре 1934 года, следующее: «Великомученик Димитрий не устрашился царя и сказал ему в свое время правду в глаза. Мы так же, как бы нам ни пришлось страдать, должны быть тверды»?
– Да. Говорил.
– Признаете ли себя виновным в том, что вы в своих проповедях по существу призывали верующих к борьбе с советской властью?
– Нет. В своих проповедях призыва верующих к борьбе с советской властью я не высказывал и виновным себя в этом не признаю.
– Следствию известно, что вы в своих проповедях, касаясь достижений советской власти в области техники, высказывали враждебное отношение к техническому прогрессу в стране и, в частности, в октябре 1934 года говорили: «Что из того, что достижения наши велики – летаем высоко, плаваем в глубинах и слышим на больших пространствах, но душу забываем и сердце наше – в сетях безбожия». Говорили вы это?
– Я не отрицаю, что нечто подобное я говорил, но слово «безбожие» я в своих проповедях не употреблял и враждебного отношения к техническому прогрессу не высказывал.
– Признаете ли себя виновным в том, что вы в своих проповедях высказывали антиобщественное направление и, в частности, в октябре 1934 года говорили: «Жизнь в безбожном обществе заставляет совершенно отказаться от веры в Бога. Жизнь с корнем вырывает все доброе. Современность заставляет идти на другой путь – антирелигиозный, дьявольский, на путь вечной гибели». Или: «Бед у нас теперь много. Особенное терпенье нужно теперь людям деревенским».
– Виновным себя в произнесении проповедей в антиобщественном направлении я не признаю. Имея в виду, что слово «безбожие» в умах граждан может преломиться в противообщественном направлении, я это слово в своих проповедях не употреблял, а говорил в более мягких выражениях, заменяя, в частности, словом «неверие». Слов, приведенных в вопросе, я не говорил. Но о вере и неверии в настоящее время я говорил, что неверие теперь распространено в сильной степени. Слов о деревне я с кафедры также не говорил. Что же касается вопроса о бедах в настоящее время, то этот вопрос я никогда не выпячивал. Я говорил о страданиях, что они являются постоянным уделом христианина на земле.
– Употребляли ли вы в одной из своих проповедей в октябре 1934 года выражение: «Здесь – свет, а там – тьма». И в каком смысле это было сказано?
– Подобной фразы я не помню, но допускаю, что я ее мог сказать в том смысле, что христианство несет миру духовный свет и что вне христианской веры – духовная тьма, то есть незнание истинной христианской веры.
– Следствию известно о том, что вы в своих проповедях внушали гражданам недоверие к научным данным по вопросу происхождения человека. Что вы можете об этом сказать?
– В проповедях я приводил сравнение – параллель между христианским учением о происхождении человека и учением дарвинизма, и говорил, что для христианина учение Дарвина о происхождении человека неприемлемо.
– Признаете ли вы себя виновным в том, что в своих проповедях научные данные о происхождении человека стремились дискредитировать?
– Нет. Виновным себя в этом я не признаю. Я касался только учения Дарвина, а вообще научные данные о происхождении человека я не отрицал.
– Следствию известно, что вы в целях развития контрреволюционной деятельности концентрировали, пользуясь положением областного архиерея, вокруг себя и на территории области реакционные элементы из монашествующих и репрессированного духовенства. Признаете ли себя в этом виновным?
– Виновным себя в этом не признаю, так как я концентрации вокруг себя и на территории области монашествующих и репрессированного духовенства не проводил. Но духовенству из репрессированных за контрреволюционную деятельность наравне с другими, то есть нерепрессированными, по мере их ко мне обращений, я помогал как выдачей денежных средств, так и предоставлением по мере возможности мест при церквях.
В октябре 1935 года архиепископу устроили очные ставки со лжесвидетелями, причем проводили их за две‐три минуты, дабы нравственный авторитет исповедника не успел оказать влияния на лжесвидетеля.
Все выставленные против него лжесвидетельства архиепископ категорически отверг. После окончания следствия, перебирая в памяти задававшиеся ему следователем вопросы и свои ответы, святитель счел нужным сделать к ним добавления. Он написал: «По вопросу о пострижении в монашество. Здесь мне задан вопрос: “Вы совершали на территории Курской области тайные постриги в монашество?” И стоит мой ответ: “Да”. Этот мой ответ не вполне точный. Я никогда не совершал и не благословлял тайных постригов. Тайные постриги – это такие, которые совершаются самочинно, без разрешения архиерея; постриженные скрывают, что они – монахи или монахини, носят обычную мирскую одежду. А открытые постриги – это те, которые совершаются с разрешения архиерея, постриженные не скрывают того, что они приняли монашество. С моего разрешения были совершены постриги в монашество нескольких старых женщин... Эти постриги именно квалифицируются как открытые, так как все постриженные не скрывали того, что они приняли монашество, и ходили в монашеской форме. Так, моя мать Екатерина была пострижена весной 1935 года в моей келье с именем Наталии, и все верующие города Курска знают, что она теперь – монахиня Наталия.
По вопросу о проповедях моих в храмах. Против меня выставляются некоторые выдержки из моих проповедей – будто их я говорил. Я возражаю; те лица, которые слышали эти слова, якобы мною сказанные, – не могут привести точно моих проповедей, так как эти мои проповеди они не записывали, а помнят лишь их по слуху».
20 октября следствие было закончено; 4 декабря дело было передано в Специальную Коллегию Курского областного суда, и на следующий день в 8 часов утра архиепископу вручили обвинительное заключение.
С 8 декабря 1935 года начались закрытые заседания суда, которые продолжались два дня. Все обвиняемые, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, отказались признать себя виновными.
Архиепископ Онуфрий предстал на суде как Божий святитель, готовый пострадать за Христа. Ему претили лукавство и ложь, на которые его толкали противники веры. «В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю, – начал свое слово святитель, – никаких сборищ у нас не было и группы у нас никакой не было, все священники у нас зарегистрированы, и они могли и имели право приходить ко мне.
Мы принадлежим к ориентации митрополита Сергия. Проповеди я говорил в тех храмах, которые были зарегистрированы, – в Спасском, Благовещенском и Троицком. На очной ставке свидетель путался в изложении моих выражений на проповедях – я категорически отрицаю, что в своих проповедях допускал контрреволюционные фразы, – я в проповедях говорил только поучения, наставления о Евангелии, молитвах, что допущено гражданским правом.
Записки, отобранные у меня, выписаны моей рукой из дореволюционных книг религиозного характера для проповедей, я их воспринимаю с чисто церковной точки зрения. Часть из этих записок я заимствовал для своих проповедей религиозно‐нравственного характера...
Добровольные пожертвования, на которые мы существовали, собирались путем обхода верующих с кружкой и использовались для уплаты налогов и выплат в Патриархию... никакого учета по этим поступлениям я не вел; я оказывал денежную помощь особенно нуждающимся, обращавшимся за помощью.
За мою бытность в Курске было произведено четыре пострига в монашество: то были старушки, из них одна – моя мать; эти постриги были на случай смерти, а не для создания кадров, две из них уже умерли. Постриг произведен по просьбе самих постригавшихся, это совершалось скромно, в моей келье, тогда как я имею право совершать это в церкви.
В своих проповедях я говорил о страданиях: я говорил в редакции той, что страдания – удел всякого христианина. Слово “безбожие” я не употреблял в своих проповедях, а говорил “неверие”; приводя примеры из жизни верующих во время царствования Нерона, я говорил: нужно веровать, молиться; я говорил: христианство есть свет, религия непобедима, имея в виду те мероприятия, которые были в первые века гонения на христианство; в отношении великомученика Димитрия я говорил, что как он говорил правду не боясь царю Максимиану, так и нам следует говорить правду всегда и всем.
Вопрос о происхождении мира я излагал с точки зрения религии, и при этом сказал, что точка зрения Дарвина неприемлема религией, как отвергающая бытие Божие».
9 декабря суд зачитал приговор: архиепископ Онуфрий, игумен Мартиниан (Феоктистов), протоиерей Ипполит Красновский, священник Виктор Каракулин – были приговорены к десяти годам заключения в исправительно‐трудовой лагерь, диакон Василий Гнездилов – к семи годам, псаломщик Александр Вязьмин – к пяти годам заключения.
Архиепископ не роптал на несправедливый приговор. «Господь справедлив всегда!.. – писал он. – За что такая скорбь душе нашей? – За неверие, богохульства и кощунства высших, за богоотступничество многих из бывших епископов и иереев – ныне обновленческих и иных раскольников, за равнодушие к святыням и маловерие многих, считающих себя православными!..»
Священномученик Виктор родился 29 июля 1887 года133 в селе Волоконское Суджанского уезда Курской губернии в семье псаломщика Константина Никаноровича и его супруги Натальи Григорьевны Каракулиных. В 1909 году Виктор окончил Курскую Духовную семинарию и был назначен секретарем редакции «Курских епархиальных ведомостей». В 1910–1911 годах он был законоучителем Курской Стрелецкой второй женской школы. В 1910 году Виктор Константинович был рукоположен во диакона к Смоленской церкви в городе Курске36 и впоследствии во священника и служил в Троицкой церкви в городе.
23 июля 1935 года власти арестовали его вместе с архиепископом Курским Онуфрием и другими священниками. На следствии отец Виктор не признал себя виновным и отказался подписывать лжесвидетельства против себя и других. Следователи устроили очные ставки со лжесвидетелями, но священник отказался подтвердить их оговоры. 8 декабря 1935 года состоялось закрытое заседание Специальной Коллегии Курского областного суда, выступив на котором, отец Виктор категорично заявил, что не признает себя виновным: отношения с архиепископом Онуфрием у него были не как с главой контрреволюционной организации, а как с правящим архиереем, и все взаимоотношения имели исключительно церковный характер, и вопросы решались только церковные.
9 декабря 1935 года Специальная Коллегия Курского областного суда приговорила священника к десяти годам заключения, и он был отправлен в Дальневосточный лагерь в Хабаровский край, где оказался вместе с архиепископом Онуфрием и епископом Антонием. Отец Виктор был слабого здоровья, и тяжелая работа в лагере оказалась для него непосильной. Тяжело заболев, он скончался – 7 мая 1937 года, в пятницу Светлой седмицы.
Священномученик Ипполит родился 3 августа 1883 года в Москве в семье священника, служившего в церкви Воскресения Словущего на Таганке, Николая Аникитовича Красновского и его супруги Веры Ефимовны. В 1897 году Ипполит окончил Заиконоспасское духовное училище, в 1904‐м – Московскую Духовную семинарию, в 1909‐м – Московскую Духовную академию со степенью кандидата богословия.
В 1910 году Ипполит Николаевич был рукоположен во священника к Воскресенской церкви на Таганке и назначен заведующим и законоучителем Воскресенско‐Таганской одноклассной и воскресной школ; в 1911 году скончался его отец и отец Ипполит был назначен настоятелем храма. В 1914 году он был определен законоучителем коммерческого училища, учрежденного Н. Ф. Горбачевым, и избран членом Благочиннического совета, в 1921 году – награжден наперсным крестом, в 1924‐м – возведен в сан протоиерея и назначен временно исполняющим обязанности благочинного 2‐го отделения Ивановского сорока. В 1927 году протоиерей Ипполит был награжден золотым наперсным крестом с украшениями; в 1928 году освобожден от исправления обязанностей благочинного.
19 сентября 1930 года власти арестовали его и заключили в Бутырскую тюрьму. Отца Ипполита обвиняли в том, что он поддерживал отношения с широким кругом духовенства, читал сам и хранил рукописную церковную литературу, трактующую вопросы современной церковной жизни. Тройка ОГПУ приговорила священника к десяти годам исправительно‐трудовых лагерей, и отец Ипполит был отправлен на строительство Беломорско‐Балтийского канала. В 1933 году заключение в лагерь заменили ссылкой с прикреплением к определенному месту жительства. Он выбрал Курск, куда приехал незадолго перед тем, как туда правящим архиереем был назначен архиепископ Онуфрий (Гагалюк), который его знал и сразу же предоставил ему место священника, и они часто потом служили вместе. Отец Ипполит заходил в дом к архиепископу, совершал по просьбе владыки молебны и окормлял духовно его мать, монахиню Наталию. Архиепископ и священник были близки по взглядам, и во время отъездов архиепископа Онуфрия в Москву на заседания Священного Синода отец Ипполит вел делопроизводство епархии и старался по мере возможности разрешать вопросы, возникавшие у духовенства. 23 июля 1935 года сотрудники НКВД арестовали архиепископа Онуфрия и отца Ипполита, которого обвинили в том, что он произносил с амвона антисоветские проповеди.
– Расскажите, какое содержание носили ваши проповеди, – спросил следователь священника.
– Мои проповеди сводились к объяснению сущности христианской веры, – ответил отец Ипполит.
– В своих проповедях вы призывали верующих к терпению и не терять надежды на то, что скоро настанет светлое будущее. Признаете ли вы, что в вашем призыве есть контрреволюционный смысл?
– Да, я действительно в своих проповедях говорил о терпении, но это относилось только к личным скорбям верующих, к их личным потерям, борьбе с внутренним грехом... контрреволюционного смысла в моих проповедях не было.
– По своей собственной инициативе вы говорили проповеди или по указанию архиепископа Онуфрия?
– Да, по своей собственной инициативе, так как право произносить проповеди на религиозную тему предоставлено по законам церковным каждому священнику.
– Скажите, гражданин Красновский, какое толкование вами давалось духовенству в связи с опубликованием в печати сообщений о выселении контрреволюционного элемента из Ленинграда, Москвы и других городов СССР после убийства товарища Кирова?
– Узнав о выселении людей из Ленинграда и других городов после убийства Кирова, я действительно говорил духовенству, что настало время, когда и нам нужно подготовиться к ссылке, так как такое мероприятие советской власти коснется и нас, духовенства, причем о себе я лично сказал, что я даже рад буду этому, так как это отвечает моему желанию.
– Следствию известно, что вы с прибытием Онуфрия Гагалюка в город Курск установили с ним в целях развития контрреволюционной деятельности связь, каковую поддерживали до момента ареста. Признаете ли вы себя в этом виновным?
– В своем общении с Гагалюком я развития контрреволюционной деятельности не преследовал и виновным себя в этом не признаю.
– Что вы еще можете показать по вопросу проповеди, произнесенной вами 27 сентября 1934 года, то есть, в частности, говорили ли вы в этой проповеди следующее: «Какие бы ни встречали вас скорби, напасти, а их в жизни очень много, – терпите и терпите: все это нам дается за грехи наши»?
– Да, я это говорил и разумел под этими словами личные скорби людей в их жизни.
– Что вы имели в виду, говоря в некоторых случаях, в частности весной 1935 года, следующие слова: «Где же наши верующие? При таком отношении, совершенно безучастном, безразличном, вполне можно ожидать закрытия всех церквей»?
– Говоря эти слова, я имел в виду слабое посещение церквей со стороны верующих.
Были проведены очные ставки священника с некоторыми лжесвидетелями, но отец Ипполит отверг все их показания.
После окончания допросов священник подал заявление следователю. «Во всех проповедях, – писал он, – я излагал, как показывал, только внутреннюю сторону христианской религии и ни власти, ни строя, ни вообще внешней жизни не касался. К власти советской относился всегда лояльно. Поэтому решительно заявляю: ни к чему антисоветскому... не призывал и не признаю себя виновным».
8–9 декабря 1935 года в Курске состоялись заседания Специальной Коллегии Курского областного суда. Они были закрытыми для публики, в зале суда присутствовали лишь обвиняемые и свидетели. Выступая на суде, отец Ипполит сказал: «В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю. Никакой группы я не знал, Гагалюка я знаю как приехавшего к нам архиепископа... прием просителей происходил на квартире у Гагалюка, как обыкновенно у всех архиереев. По вопросу моих проповедей мне говорили, чтоб я не задерживал народ, диакон говорил мне: “теперь говорить опасно”; я в своих проповедях не касался внешней жизни, я говорил о христианской любви, о страданиях... 27 сентября у нас был праздник Воздвижения, и я говорил проповедь... о страданиях Христа, о том, что страдания не озлобляют, а облагораживают душу.
В проповеди о любви я говорил, что любовь – это дар за нашу твердую решимость не потерять веру».
9 декабря 1935 года Специальная Коллегия Курского областного суда приговорила отца Ипполита к десяти годам заключения, и он был отправлен в исправительно‐трудовые лагеря в Хабаровский край.
В марте 1936 года архиепископ Онуфрий был отправлен этапом на Дальний Восток. Первое время он находился в совхозе НКВД на станции Средне‐Белая Амурской области.
4 декабря 1936 года он писал матери в Курск: «Дорогая мамаша! Получил на днях два письма от Вас. Вы пишете, что пришлете мне теплую одежду, вроде свитки, – не нужно ее присылать мне. Я, слава Богу, в одежде не нуждаюсь. Пока я отдыхаю, не работаю, как и другие старички‐инвалиды. Варежки и маслины я в свое время получил. Получил и все книжки, очень жаль, что нет словаря… По милости Божией я здоров, хотя сердце немного болит...
Я недавно послал Вам открытку, где сообщал, что получил от Вас три посылки... и письма... Всех благодарю и помню обо всех... Только я совсем изменился во внешности: настоящий дед, седой и безволосый, с маленькой косичкой. Отец Ипполит беспокоится и скорбит, что никто из родных и знакомых ему не пишет. Передайте Андрюше от меня привет, а через него – Дедушке...»
Через некоторое время владыка писал: «Дорогая мамаша! На днях я получил письмо Ваше от 2 ноября, а также письма... приношу глубокую благодарность всем добрым моим благодетелям... Я писал Вам, что теперь я на новом месте, в том же совхозе. Здесь мне труднее, работаем на открытом поле – молотим хлеб весь день, там же и обедаем. Но Господь дает силы и терпение. Уже восемь месяцев, как я работаю на открытом поле непрерывно, кроме дней десяти, когда хворал или была ненастная погода. Но здоровье мое не ослабело, я даже перестал кашлять, лишь по утрам кашляю. Отец Ипполит, отец Виктор и еще двое священников работают со мною вместе. Валенки я получил, ношу их, очень они кстати, хотя здесь дают валенки. Чувствую себя благодушно. За все благодарю Господа. Молюсь, грешник, чтобы скорее с вами повидаться и с вами помолиться. Но это зависит больше от вас – ваших молитв ко Господу, Которому все возможно...»
20 мая 1937 года владыка писал: «Дорогая мамаша! Христос воскресе! Получил вчера Ваше письмо. Сегодня открыл Ваши две посылки: от 1 февраля и от 12 апреля… Спаси, Господи, всех моих благодетелей... Я, слава Богу, здоров и благодушен, работа у меня теперь гораздо легче. Отец Ипполит тоже здоров, работает он немного как инвалид. А об отце Викторе сообщаю Вам печальную весть: он умер 7 мая, то есть в пасхальную пятницу, от туберкулеза и болезни желудка – в больнице, его уже похоронили. Передали, что родственники могут взять его вещи… Мы не думали, что он так скоро уйдет от нас, дорогой собрат наш. Но да будет воля Божия. Отец Виктор еще в феврале был довольно бодрым, мечтал скоро побывать в своих краях. Помолитесь о нем усердно!.. Владыка Антоний живет теперь недалеко от нас – в Средне‐Бельском совхозе, на 2‐м участке, а мой – 5‐й. Он устроился прилично, хотя здоровьем немного ослабел...»
24 августа 1937 года архиепископ писал: «...Работаем на общих полях, вместе с владыкой Антонием. Недавно был у доктора на осмотре; признал, что сердце у меня слабое, работать долго нельзя. В сырую погоду покашливаю, хотя меньше, чем у Вас. Уже третий год не вижу Вас. Когда же Господь даст мне утешение видеть Вас и молиться с Вами? Прошу у всех святых молитв обо мне, грешном...»
9 декабря 1937 года владыка писал: «...Я очень благодарен всем за память и заботы обо мне, грешном. Здоровье мое, по милости Божией, сносное... Но в общем приходится нести лишений немало. Душою я спокоен, за все благодарю Создателя, Который всегда заботится о нас. Пишу Вам накануне празднования иконы Божией Матери “Знамение”, великого праздника. Как‐то у Вас пройдет этот праздник?.. Приветствую всех моих друзей и знакомых, которых я, грешный, вспоминаю всегда в моих молитвах, и прошу их молитв обо мне, грешном. Владыка Антоний в другом месте. Отец Ипполит со мною, хотя он инвалид...»
30 июля 1937 года НКВД был отдан оперативный приказ № 00447 о расстреле находившихся в тюрьмах и лагерях заключенных, и в феврале 1938 года против архиепископа Онуфрия, епископа Антония, священников Ипполита Красновского, Николая Садовского, Митрофана Вильгельмского, Василия Иванова, Николая Кулакова, Максима Богданова, Михаила Дейнеки, Александра Ерошова, Александра Саульского, Павла Попова, Павла Брянцева, Георгия Богоявленского и псаломщика Михаила Вознесенского и других, находящихся в лагере священно‐ и церковнослужителей, было начато новое «дело».
Оперуполномоченный 3‐го отдела Дальневосточных лагерей допросил некоторых заключенных, готовых подписать лжесвидетельства против архиереев и духовенства. Был допрошен комендант лагерной зоны, который показал: «Отбывая меру уголовного наказания при Средне‐Бельском лагпункте Дальлага НКВД и выполняя обязанность коменданта зоны осужденных по статье 58, 59 УК РСФСР с момента создания последней, то есть с июня 1937 года, мне приходится наблюдать за лагерным населением и видеть, что происходит в среде заключенных. Исходя из этого, я пришел к такому выводу, что все заключенные указанной выше зоны, смыкаясь между собой на почве единства воззрений, сплотились в определенные контрреволюционные группировки разных направлений... персонально в контрреволюционную группу входят следующие лица: Гагалюк... Панкеев... – бывшие архиереи; Богоявленский... Вильгельмский... Красновский... и т. д. Руководящую направляющую роль в этой контрреволюционной группировке играют Гагалюк... и Панкеев... Контрреволюционная деятельность указанной группировки выражается в том, что они, будучи почти все отнесены к группе инвалидов... дезорганизуют производство. Кроме этого... открыто собираются группами в палатке и совершают религиозные обряды, поют молитвы... Такие заключенные из бывших представителей Православной Церкви, как Гагалюк... и Панкеев... имеют большую переписку с внешним миром и очень часто получают из разных городов Советского Союза крупные посылки, которыми делятся с остальными священнослужителями...»
Другой заключенный‐свидетель показал в подтверждение преступной деятельности священников: «Попы по воскресеньям надевают подрясники и производят чтение молитв...»47
27 февраля 1938 года архиепископ Онуфрий был вызван на допрос и следователь потребовал от него:
– Расскажите о контрреволюционной группировке, возглавляемой вами и вашим коллегой Панкеевым, и об антисоветской агитации, которую проводят бывшие служители религиозного культа.
Архиепископ ответил:
– О существовании контрреволюционной группировки я ничего не знаю и поэтому показать ничего не могу, тем более что некоторых лиц... я совершенно не знаю. Остальных я знаю по лагерю и имею с ними общение как лагерник.
За десять лет до принятия мученической кончины, находясь в ссылке, владыка Онуфрий писал: «“Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни” (Откр. 2, 10). Какой смысл гонений на служителей Христовых – ссылок, тюрем? Все это совершается не без воли Божией. Значит, в любое время они могут и окончиться, если сие будет угодно Богу. Посылаются эти гонения для испытания нашей верности Богу. И за твердость ожидает нас венец жизни... Это слова Божии. Следовательно, они непреложны. Таким образом, гонения за верность Богу имеют для исповедников свои результаты: вечную радость, небесное блаженство... Отчего же скорбеть нам, служителям Христовым, рассеянным по тюрьмам и глухим безлюдным селениям?.. Не нужно и думать о каком‐либо самовольном изменении нашей участи в гонениях путем каких‐либо компромиссов, сделок со своей совестью. Гонения – крест, возложенный на нас Самим Богом. И нужно нести его, быть верным долгу своему даже до смерти. Не оглядываться назад или по сторонам с унылым видом, а смело вперед идти, отдавшись на милость Божию, как говорит Спаситель: “Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия” (Лк. 9, 62)...»
Священномученик Антоний родился 1 января 1892 года в селе Садовом Херсонского уезда Херсонской губернии в семье священника Александра Панкеева и в крещении наречен был Василием. В 1912 году Василий окончил по первому разряду Одесскую Духовную семинарию и поступил в Киевскую Духовную академию.
В 1915 году между Киевской и Петроградской академиями состоялся обмен студентами, и Василий Панкеев был определен на III курс Петроградской Духовной академии.
10 января 1915 года студенты III курса академии Василий Панкеев и Владимир Белобабченко были пострижены в иночество с наречением им имен Антония и Феодосия. После пострига ректор академии епископ Анастасий (Александров) обратился к ним с таким словом: «Узкий и скорбный путь предстоит для новой жизни. Жизнь инока есть непрестанный подвиг, постоянная борьба, крест и самопожертвование, старание победить всякие искушения, яже от плоти и от мира во умерщвление тела и обновление духа... Сами родом южане, взирая на житие и подвиги южнорусских подвижников, новых ваших заступников пред престолом Господним, святых Антония и Феодосия, угодников Печерских, следуйте им: они служили Церкви Божией; создатели русского иночества, они воспитали у нас ту крепость христианского духа, без которой наружное иночество легко является и легко исчезает... Вы, пройдя высшую школу богословской науки, с верою и упованием взирая на грядущее, идите всюду и служите людям, уча и просвещая их и ведя ко спасению, – всех обнимая своей христианской любовью, старайтесь быть всем вся, чтобы спасти хотя бы некоторых, жаждущих милости Божией...»
Через неделю инок Антоний был рукоположен во иеродиакона. В феврале того же года по ходатайству члена Государственной Думы священника Александра Альбицкого, с благословения митрополита Петроградского и Ладожского Владимира (Богоявленского), иеродиакон Антоний отправился на фронт для совершения богослужений и удовлетворения духовных нужд раненых и больных воинов. Он служил вместе со священником Александром Альбицким в походной церкви при одном из четырех оборудованных Всероссийским национальным союзом передовых санитарно‐питательных отрядов, находившихся под покровительством Государя.
В мае 1915 года иеродиакон Антоний приехал в Петроград. 24 мая в храме Рождества Пресвятой Богородицы при Василеостровском городском начальном училище епископ Анастасий рукоположил его во иеромонаха. После рукоположения иеромонах Антоний уехал на фронт в качестве настоятеля одной из походных церквей Всероссийского национального союза.
Из‐за службы в действующей армии учебные занятия пришлось отложить, и учебный год оказался пропущенным. В 1917 году иеромонах Антоний все же окончил Петроградскую Духовную академию. 26 января 1917 года за безупречное исполнение пастырских обязанностей на фронте он был удостоен ордена святой Анны 3‐й степени. По окончании академии иеромонах Антоний был направлен служить в город Одессу и здесь вскоре был возведен в сан игумена. В Одессе он стал преподавать в Духовной семинарии до ее закрытия безбожными властями в 1920 году.
В 1922 году возник обновленческий раскол, и в июне 1923 года обновленческий митрополит Евдоким (Мещерский) вызвал игумена Антония к себе и сказал: «На следующий день будет твоя хиротония». Игумен Антоний растерялся, уступил натиску Евдокима и был хиротонисан обновленческими архиереями во епископа Херсонского, викария Одесской епархии, где другим викарием православной епархии в это время был один из его ближайших друзей, епископ Онуфрий (Гагалюк).
В 1924 году игумен Антоний принес покаяние, и 27 августа 1924 года Патриарх Тихон с сонмом православных святителей хиротонисали его во епископа Мариупольского, викария Екатеринославской епархии. Викариатством он управлял всего несколько месяцев, а затем был арестован и сослан властями в город Харьков, откуда продолжал управлять Мариупольским викариатством.
В 1926 году епископ Антоний вновь был арестован и приговорен к трем годам заключения в Соловецкий концлагерь, а в 1929 году – к трем годам ссылки в Енисейск.
Вернувшись из ссылки в 1933 году, епископ Антоний обратился с просьбой о получении кафедры к экзарху Украины митрополиту Константину (Дьякову), который благословил его обратиться относительно места служения к заместителю патриаршего Местоблюстителя митрополиту Сергию (Страгородскому). После встречи с митрополитом Сергием в Москве епископ Антоний был назначен им на Белгородскую кафедру.
Это было время, когда безбожные власти закрывали один за другим православные храмы, при этом святыни подвергались кощунствам, а храмы разграблялись. Почувствовав высокий христианский настрой нового епископа, верующие Белгорода стали оспаривать перед властями законность их действий и требовать возвращения храмов.
Церковный совет Трехсвятительского храма писал во ВЦИК 25 ноября 1934 года: «Церковный совет Трехсвятительской общины города Белгорода 30 сентября 1933 года по предложению Белгородского РИКа, идя навстречу государственной необходимости, сдал свой храм Заготзерну условно на два месяца. Храм обратно до сих пор не возвращен, здание разрушается, а имущество расхищается. Было время, он был совершенно свободен, да и теперь не занят хлебом. Церковный совет неоднократно обращался в РИК, в Облисполком, к прокурору республики и культовую комиссию ВЦИКа и... просит культовую комиссию положить конец волоките, побудить Белгородский РИК и Заготзерно уважать свои обязательства и выполнять законы советской власти о свободе совести».
Отстаивали свои законные права и общины других храмов Белгорода и Белгородского района. 16 октября 1934 года секретарь комиссии по культам, куда жаловались верующие, отписал прихожанам Успенского храма в Белгороде: «Секретариат областной комиссии по вопросам культов сообщает, что дело Успенской церкви города Белгорода поручено НКВД (бывшее ОГПУ)... для расследования и принятия соответствующих мер».
25 февраля 1935 года епископ Антоний был арестован. Лжесвидетелями против него выступили обновленцы и григорианцы. На допросах, начавшихся сразу же после ареста, владыка держался мужественно и на вопросы следователя о своей церковной позиции отвечал ясно и недвусмысленно.
Следователь поинтересовался, с кем из православных епископов владыка встречался, когда жил в Харькове. Преосвященный Антоний ответил, что встречался с епископами Константином (Дьяковым), Борисом (Шипулиным), Онуфрием (Гагалюком), Стефаном (Андриашенко), Макарием (Кармазиным), Павлом (Кратировым) и Дамаскиным (Цедриком). Все они служили в одной церкви и часто в дни церковных праздников собирались вместе у кого‐нибудь в доме. Вопросы, ими обсуждавшиеся, были вопросами церковными, и в частности о расколах – григорианском и лубенском. Ко всем этим явлениям церковной жизни у них было единодушно отрицательное отношение, как к направленным во вред церковному единству.
На допросах владыка отказался признать себя виновным и подписать лжесвидетельства. Один из лжесвидетелей, некий Смирнов, запрещенный когда‐ то епископом Антонием в священнослужении, пытался оговорить архиерея: «Установки мне... со стороны Панкеева, как правящего епископа, были даны следующие: вести агитацию среди населения, прихожан за отторжение Украины от СССР к Германии, вести антиколхозную агитацию и организовать кассу взаимопомощи и сбор средств для ссыльного духовенства».
– Что вы можете показать по существу показаний Смирнова? – спросил епископа следователь.
– Показания Смирнова отрицаю. Никаких указаний и установок вести контрреволюционную агитацию я не давал. Беседа моя со Смирновым носила исключительно религиозный характер.
1 августа 1935 года сотрудник НКВД объявил епископу, что следствие по его делу закончено. Владыка ответил, что показания против него ложные и он не считает себя ни в коей мере виновным.
20 августа преосвященный Антоний направил заявление прокурору, потребовав, чтобы ему предоставили возможность ознакомиться со следственным делом, так как у него есть обоснованные подозрения, что следователь вносил значительные искажения в записи протоколов допросов. В конце концов епископу удалось ознакомиться с материалами дела, и 10 сентября он направил заявление в Специальную Коллегию Курского областного суда, опровергая все выдвинутые против него обвинения и указывая на нарушения законов, допущенные следователями, и в тот же день отправил второе письмо, в котором писал: «В дополнение к моему заявлению на имя Специальной Коллегии, в коем я отметил формальные нарушения в отношении следствия... и обвинительного заключения... считаю необходимым сделать суду Специальной Коллегии, который состоится сегодня, 10 сентября, хотя краткие заявления... по существу и по содержанию обвинительного заключения...
В дальнейшем буду приводить выдержки из обвинительного заключения и делать на них свои возражения и пояснения, а также фактические поправки.
“В декабре 1933 г. в г. Белгород из ссылки возвратился Панкеев, где получил сан епископа Белгородской епархии, – цитировал владыка обвинительное заключение. – Прибывши в г. Белгород, Панкеев, будучи сам контрреволюционер, настроенный против существующего строя, как активный последователь “истинно‐православной церкви”, в целях проведения контрреволюционной работы начал подбирать себе единомышленников из числа контрреволюционного духовенства с разных городов Советского Союза”.
Я получил сан епископа не в Белгороде, – писал владыка, возражая на предъявленное ему обвинение, – а в Москве (в 1924 г.). Там же получил от митрополита Сергия назначение (в 1933 г.) в г. Белгород с правами епархиального архиерея в пределах пятнадцати районов, прилегающих к г. Белгороду. В декабре 1933 г. я, по предъявлении своих церковных и гражданских документов в Воронежской областной культовой комиссии, был сею последнею зарегистрирован в законном порядке как епископ Белгородской епархии.
Основанием считать меня контрреволюционно настроенным, согласно обвинительному заключению, является утверждение, что я активный последователь “истинно‐православной церкви” (сторонники коей, появившись в 1927 году, не подчиняются митрополиту Сергию). Это утверждение обвинительного заключения голословно и ни на чем не основано. С 1926 г. и по 1933 г. я находился в лагере и ссылке, т. е. в изоляции, и, таким образом, лишен был возможности принимать участие в церковных делах, а тем более активное. Получив в 1933 г. полное освобождение, я сразу же обратился за назначением к митрополиту Сергию, коему я канонически подчинялся все время, начиная с 1925 г., т. е. еще до лагеря и ссылки. Никаких единомышленников из контрреволюционного духовенства я не подбирал и не приглашал. Обвинительное заключение не указывает ни одного лица и не может указать, так как никого не было из православного духовенства в Белгородской епархии, кто бы не признавал митрополита Сергия, который, как глава Православной Церкви, легализован центральной гражданской властью. Все привлеченные к суду Специальной Коллегии священники, по словам самого обвинительного заключения, ни разу не были судимы за все время существования советской власти... Что касается меня, то я перед лагерем не был ни разу допрошен и о мотивах моей ссылки мне даже не было объявлено, почему я до сих пор не знаю законной причины заключения меня в лагерь (Соловки) и последовавшей за ним непосредственно ссылки в Сибирь, по окончании коей в 1933 г. я получил полное освобождение с правом жительства по всему СССР.
“В результате в короткий период по приглашению Панкеева в Белгородскую епархию прибыло 15 человек священников”, – писалось в обвинительном заключении.
15 священников было принято мною не в “короткий период”, а за все время моего пребывания в г. Белгороде, начиная с декабря 1933 г. – возражал владыка. – Текучесть кадров духовенства была обычным явлением в церковной жизни, так как приход не является собственностью священника, к которой он был бы прикреплен навсегда. 15 священников за время с 1933‐го по 1935 г., и притом для 15 районов, из коих состоит Белгородская епархия, – это ничтожное количество. Я не пригласил ни одного священника (а также никого из них не знал раньше, кроме одного). Все они приезжали сами ко мне, что видно из следственного дела. Остается удивляться заведомо ложному утверждению обвинительного заключения. Если эти 15 священников приняты мною как мои, по выражению обвинительного заключения, “единомышленники”, то почему тогда из них привлечено к суду только четверо?!
“Создав таким образом сплоченную группу духовенства, Панкеев повел среди них работу, направленную к проведению сборов денежных средств для оказания помощи репрессированному духовенству... и их семьям”, – писалось в обвинительном заключении, на что владыка возразил: “Я не создавал никакой группы из духовенства. На протяжении всего времени (с 1933‐го по 1935 г.) одни из духовенства прибывали в епархию, а другие выбывали, что является обычным в условиях церковно‐епархиальной жизни. Так за означенное время (с 1933‐го по 1935 г.) выбыло из Белгородской епархии более 20 священников, а прибыло только 15. Но обвинительное заключение почему‐то закрывает глаза на это обстоятельство, чем доказывается не только полная несостоятельность утверждения, но односторонность и крайняя предвзятость. Обычным также является поступление от прихожан и духовенства добровольных пожертвований на нужды епархиального епископа и Патриархии, ибо деньги необходимы и для существования церковного начальства, и для уплаты ими... налогов. Поэтому гражданским законом и разрешается служителям культа получение от верующих пожертвований на свои нужды. Сборов же на ссыльное духовенство и их семьи не было, и распоряжений по этому поводу я никаких никому и никогда не давал. В следственном материале нет никаких данных, кроме ложных показаний, подписанных под давлением и угрозами, что установлено переследствием”.
“В целях подрыва экономического роста колхозов Панкеев давал указания священникам своей епархии под видом усиления пастырской деятельности среди верующих колхозников проводить контрреволюционную работу, направленную на отрыв колхозников от колхозных работ”, – гласило объявление.
Если я давал, как говорится в обвинительном заключении, – возражал на это владыка, – указания проводить контрреволюционную работу священникам своей епархии (состоящей из 15 районов), то почему привлечено (и то частично, а не всё) духовенство только Корочанского района (Вильгельмский, Ерошов и Дейнека) и Белгородского района?.. Обвинительное заключение... опирается лишь на лжепоказания благочинного Корочанского района Вильгельмского, как и видно из единственной выдержки: “Обвиняемый Вильгельмский по этому вопросу показывает: “Епископ Антоний Панкеев предлагал усилить для этой цели проповеди путем служения молебнов и акафистов по воскресным и праздничным дням, вести проповеди о святости и значении праздничных дней, при этом имелись в виду главным образом колхозники, которые из‐за своих работ плохо посещают церковь”. Уже одно бессмысленное и неграмотное выражение – “усилить... проповеди путем служения молебнов и акафистов...” само за себя говорит, т. е. что оно не принадлежит священнику. И действительно, обвиняемый Вильгельмский такого показания не делал и не мог делать, так как никаких предложений об усилении проповеди я никому не давал. В своем заявлении на имя Специальной Коллегии от 10 сентября я уже пояснил, что обвиняемый Вильгельмский подавал прокурору жалобы с просьбой аннулировать его подпись под протоколами персонального следствия, как данную ввиду обмана и насилия, а также с разъяснением, что показания его в первоначальных протоколах искажены следователем до неузнаваемости и, по существу, являются не его, Вильгельмского, показаниями, а показаниями самого следователя. Вот почему по распоряжению прокурора был пересмотр дела в июне, причем Вильгельмский давал показания в том смысле, что я не делал ему никаких предложений об усилении по благочинию пастырской деятельности вообще, и тем более с целью отвлечения колхозников от работ...
“Задания указанного характера Панкеевым давались Смирнову, Ерошову, Вильгельмскому и другим”.
Кому это другим – в следственном деле и обвинительном заключении не сказано, – писал владыка. – Ерошов, первоначальный протокол коего, написанный его рукой, уничтожен следователем и заменен протоколом с ложными показаниями, написанными рукою следователя, также сделал... в порядке пересмотра, показания, в коих заявил, что никаких распоряжений об усилении пастырской деятельности от меня, как епископа, он не получал. Даже Смирнов, показавший по злобе на меня (за лишение его сана священника) и как раскольник, враждебно настроенный против меня как православного епископа, – даже Смирнов в своих путаных, противоречивых и заведомо ложных показаниях заявил, что он отказался принять якобы мое предложение насчет колхозов, так как он боялся ответственности за это перед властью. Даже это половинчатое показание Смирнов ничем доказать не может. В делах Белгородской епархии, кои изъяты у меня при обыске, имеются документы, писанные рукою Смирнова, из коих видно, что он был у меня один раз (еще в начале 1934 г.) и что моя беседа с ним носила исключительно религиозно‐церковный характер. Показаний на этот счет других обвиняемых в следственном деле нет. Нет также ни одного свидетельского показания против меня. Нет ни одного факта, а лишь голословные утверждения... Что касается моей работы “против мероприятий, проводимых партией и правительством”, то ни в обвинительном заключении, ни в следственном деле нет никаких указаний, о каких мероприятиях идет речь. По этому поводу я не был допрошен во время следствия. Голословным и ничем не обоснованным является и утверждение обвинительного заключения, что я “частично признал себя виновным”. Напротив, в следственном деле имеются мои письменные неоднократные и настойчивые заявления, что я себя не признаю виновным ни в какой мере.
Если в обвинительном заключении под выражением “Панкеев обвиняется в том, что совместно со священниками своего благочиния проводил среди населения организованную контрреволюционную работу, направленную на развал колхозов, против мероприятий, проводимых партией и правительством”, – если здесь разуметь, что я проводил контрреволюционную работу во всей Белгородской епархии, то почему в таком случае не привлечены в качестве обвиняемых (или хотя бы в качестве свидетелей) все благочинные Белгородской епархии?! Если же разуметь то, как и напечатано в обвинительном заключении, т. е. одно только благочиние из всей епархии (т. е. Корочанское благочиние), – то неестественным... было бы проведение мною контрреволюционной работы в одном только Корочанском благочинии, в то время как я являлся епископом над всеми благочиниями Белгородской епархии. Явная неувязка, путаница и бессмыслица! Все это лишь говорит о моей невиновности и неосновательной попытке обвинения доказать обратное.
В заключение еще раз заявляю, что предъявленное мне обвинение отрицаю полностью.
Оставляя за собою право делать на суде более подробные словесные пояснения, прошу Специальную Коллегию это мое заявление с краткими письменными пояснениями приобщить к моему делу и протоколу судебного разбирательства».
10 сентября 1935 года в половине двенадцатого утра открылось заседание Специальной Коллегии Курского областного суда. Суд не дал возможности обвиняемым говорить пространно, и подробно написанные объяснения владыки до некоторой степени заменили объяснения в суде. Во время судебного заседания преосвященный Антоний сказал: «В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю... Я принадлежу к церковному течению, возглавляемому митрополитом Сергием... В Белгородской епархии нет ни одного священника, принадлежащего к группе иосифовцев...»
Вместе с епископом Антонием были арестованы священники Митрофан Вильгельмский, Александр Ерошов, Михаил Дейнека и псаломщик Михаил Вознесенский.
Священномученик Митрофан родился 4 июня 1883 года в городе Новомиргороде Херсонской губернии. Отец его, Григорий Вильгельмский, занимался ремесленным промыслом. Митрофан окончил церковноприходскую школу и с 1911 года служил в храме псаломщиком. В 1922 году он был рукоположен во диакона, а через год – во священника и служил в храмах Одесской епархии. В 1924 году отец Митрофан был арестован и приговорен к трем месяцам заключения по обвинению в крещении ребенка без справки из ЗАГСа. С 1928 года он стал служить в Полтавской епархии. В феврале 1934 года власти закрыли храм, в котором служил священник, и отец Митрофан написал архиепископу Онуфрию (Гагалюку), которого хорошо знал как ранее управлявшего Одесским викариатством, и получил от него благословение ехать к епископу Антонию в Белгородскую епархию. Приехав к владыке, отец Митрофан получил место и вскоре был назначен благочинным.
22 февраля 1935 года сотрудники НКВД арестовали его. На допросе священник сначала было подписал показания, написанные следователем, но 22 июня дал иные показания, которые следователь вынужден был записать: «Относительно моих показаний, данных мной ранее, имею внести следующие поправки, которые мной обнаружены в результате ознакомления с материалом следствия при окончании следствия, а именно:
В ранее данных мной показаниях при записях неверно сформулировано, что якобы я получал от епископа Панкеева задание производить сбор денег под видом пожертвований на епархию и Патриархию для оказания помощи ссыльному духовенству. Поясняю, что этот вопрос при записи моего показания сформулирован немного не так. Я показывал, что я действительно получал распоряжения от епископа Панкеева производить сборы на Патриархию и епархию, но о том, что указанные деньги посылаются на оказание помощи ссыльному духовенству, Панкеев мне об этом не говорил и я этого не знал. О том, что эти деньги идут на оказание помощи ссыльному духовенству, это было мое личное предположение. Об этом я иногда верующим, то есть свое предположение, высказывал, но точно я не знал. Неправильно также сформулировано при записи, что якобы я получал от епископа Панкеева задание об усилении пастырской деятельности среди верующих в праздничные и воскресные дни с целью отрыва колхозников от работ и что я такие распоряжения давал священникам своего благочиния. Я действительно от Панкеева получал распоряжения, чтобы усилить пастырскую деятельность, но только в своем приходе, который я лично обслуживал, в городе Короче. В этом распоряжении ничего не говорилось о том, чтобы отрывать колхозников от колхозных работ. Такое распоряжение вызвано было тем, что на меня имелась жалоба от прихожан, что я плохо провожу религиозную деятельность и что я плохой проповедник. Насчет этого Панкеев действительно мне писал о желательности того, чтобы я читал акафисты святителю Иоасафу...»
Но и этими ответами отец Митрофан остался недоволен и 7 августа направил прокурору новое заявление, в котором, в частности, писал: «При допросе следователя... мне был задан вопрос, признаю ли я свои показания, данные мною в марте месяце сего года? Я заявил, что не признаю, так как таковые были неправильны и извращены следователем и записаны неправильно, а была лишь моя подпись, которая была подписана мной под нажимом и угрозой следователя. Но следователь в протокол от 25 июня почему‐то этого не записал. Второй вопрос мне был задан тем же следователем: почему я не признаю свое показание, записанное следователем 9 мая сего года? Я ему ответил, что я их также не признаю, так как эти показания также являются неправильными, о чем я заявлял следователю в момент записывания этих показаний следователем в протокол. Я говорил следователю, не пишите, потому что это неправильно. Следователь мне ответил, что здесь ничего преступного для вас нет и вы можете на суде отвергнуть это. Подписал я, потому что не желал раздражать следователя, дабы не возник такой же конфликт, как был со следователем, который нанес мне ряд угроз и оскорблений в городе Белгороде, когда я ему заявлял, что мое следствие ведется неправильно и мои показания записываются в искаженном виде... Следователь в протоколе от 25 июня сего года записал, что якобы я желал исправить свои ошибки. Это также неверно – не свои ошибки, а ошибки следователя. И так как все дело поступило в Ваше распоряжение, то я поясняю, что свои показания, данные мною в марте месяце, я считаю неправильными, так как все показания были извращены следователем... В акте об окончании следствия и ознакомлении со следственным материалом я не записал своих возражений, потому что следователь мне сказал, что будет суд, где вы будете опровергать все неправильности...
Еще раз заявляю, что я не показывал при допросе о том, что Панкеев делал мне распоряжения о сборе пожертвований на ссыльных и заключенных и об усилении проповедей с целью отвлечения колхозников от работы, а также не показывал, что я проводил контрреволюционную агитацию или вел какие бы то ни было контрреволюционные разговоры. Ничего подобного я не показывал на допросах, а потому виновным себя не признаю ни в чем».
Во время судебного заседания отец Митрофан отверг возводимые на него обвинения и сказал: «В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю. Показание на предварительном следствии неправильно записано. Следователь записывал с моих ответов на черновик, а потом зачитал мне; я был согласен с записанным, а подписал показание, переписанное начисто, которое не читал... Об усилении пастырской деятельности мне никто указаний не давал, и я также никому не давал таких указаний, потому что каждый священник сам знает свои обязанности...»
Священномученик Александр родился 22 ноября 1884 года в селе Чернянка Новооскольского уезда Курской губернии в семье крестьянина Луппа Ерошова. С детства Александр мечтал стать служителем Христовой Церкви. В 1896 году он окончил сельскую школу и уехал в Киев, где долгое время пел в монастырском хоре, и здесь основательно изучил церковный устав и богослужение. В 1911 году он был рукоположен во диакона. В 1918 году диакон Александр окончил пастырские курсы в Харькове и был рукоположен во священника. Служил он в Свято‐Троицком храме в селе Ольшанка Новооскольского уезда. В 1934 году епископ Антоний перевел его в Успенский храм села Большая Халань Корочанского района Курской области.
Власти, намереваясь закрыть этот храм, потребовали от прихода под видом уплаты налогов сдачи государству дополнительных денежных средств. Деньги были выплачены, но церковный совет Успенского храма, указав на незаконность этих действий, попросил учесть эти средства в качестве уплаты налогов за следующий год.
Но власти поступили иначе – 22 февраля 1935 года сотрудники НКВД арестовали отца Александра.
– Скажите, – спросил его следователь, – были ли вам указания от своего благочинного Вильгельмского об усилении пастырской деятельности, и в каком направлении?
– Да, были. Указания благочинного Вильгельмского заключались в том, чтобы я усилил свою пастырскую деятельность путем проповеди с амвона по привлечению верующих прихожан к посещению церкви, особенно в воскресные и праздничные дни. Например: вводить общее пение, служить великие вечерни, после которых читать акафисты, и другие меры воздействия. Речь здесь шла, разумеется, о колхозниках, которые в силу своих колхозных работ плохо посещают церковь, – записал следователь его ответ в протокол, как считал нужным.
– Выполняли ли вы эти указания и каким путем?
– Да, выполнял. Как пастырь, я воздействовал на верующих колхозников, для того чтобы они усердно посещали церковь, путем усиления службы и проповеди с амвона, то есть так, как мне было предложено епископом Антонием через благочинного Вильгельмского, – написал следователь.
Отец Александр подписывал протоколы допросов, не читая их, но, заподозрив неладное, потребовал от следователя, чтобы тот разрешил ему написать ответы собственноручно. Тот разрешил. Знакомясь со следственным делом, священник не обнаружил этого протокола в деле и просил следователя его показать, на что следователь ответил, что протокол им был уничтожен.
Во время судебного заседания отец Александр сказал: «В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю... Я свои показания на предварительном следствии подписал, но не читал... Указаний об усилении проповедей и молебнов Вильгельмский мне не давал, он только спрашивал, какая у меня идет служба в церкви, – я ему рассказал, что служу вечерни по воскресным и другим праздничным дням. Спрашивал, ведется ли у меня церковное пение, я сказал, что поют любители...»66
Священномученик Михаил родился 7 ноября 1894 года в городе Борзна Черниговской губернии в семье сапожника Фомы Дейнеки. Окончив церковноприходскую школу, он поступил на курсы псаломщиков при монастыре. С 1917‐го по 1921 год Михаил служил псаломщиком в храмах Харьковской губернии; в 1921 году он был рукоположен во диакона, а в 1924 году – во священника. Служил отец Михаил сначала в Харьковской епархии, а затем по рекомендации архиепископа Курского Онуфрия был принят епископом Антонием в Белгородскую епархию. 22 февраля 1935 года он был арестован.
– Скажите, вы производили сбор денег под видом пожертвований? – спросил его следователь.
– Да, производил. Сбор производился особой тарелкой во время службы, – ответил отец Михаил.
– Вы знали, для какой цели производятся эти сборы?
– Со слов епископа Антония и благочинного Вильгельмского я знал, что эти пожертвования идут на Патриархию.
После объявления об окончании следствия, в то время когда все «дело», ввиду отсутствия доказательств вины арестованных, было отправлено на доследование, следователь спросил отца Михаила:
– Скажите, подтверждаете ли вы свои ранее данные показания?
– Все свои показания, данные ранее, подтверждаю полностью. Одновременно добавляю, что показания свидетеля... о том, что якобы я в своих проповедях призывал верующих посещать храмы и не ходить на работу, считаю... измышлением. На эту тему… я никогда не говорил, и об этом могут подтвердить все верующие...
В судебном заседании отец Михаил сказал, что в предъявленном ему обвинении виновным себя не признает.
Мученик Михаил родился 14 апреля 1900 года в слободе Фощеватая Корочанского уезда Курской губернии в семье священника Матфея Вознесенского, убитого безбожниками в 1919 году (его память Церковь чтит также в этот день). Михаил учился в Духовной семинарии в Белгороде, которую не успел окончить из‐за происшедшей в 1917 году революции. Затем служил псаломщиком в храмах Белгородской епархии; он был арестован в 1935 году. Михаил Матвеевич был племянником митрополита Литовского Елевферия (Богоявленского). На допросе следователь спросил его:
– С кем вы из родственников переписывались?
– Переписку я вел с братом, с сестрой... и с дядей – митрополитом Литовским Елевферием. Последний в своих письмах выражал желание, чтобы я был с ним, но я считал, что это осуществить невозможно, поэтому не пытался ходатайствовать о выезде за границу.
– О чем вы писали митрополиту Елевферию?
– Митрополиту Елевферию я писал о своей тяжелой жизни, где и как живут родственники, о его духовных знакомых и о церковном расколе в России.
– А о чем он вам писал?
– Митрополит Елевферий интересовался, как живет духовенство, интересовался моей жизнью, спрашивал, как живут родственники и описывал, как он сам живет. На все интересующие его вопросы я ему отвечал.
2 июля 1935 года Михаил Матвеевич написал заявление прокурору Курской области по надзору за органами НКВД. «22 мая сего года, – писал он, – мне было объявлено об окончании следствия по моему делу, и я коротко и бегло был ознакомлен следователем с обвинительным против меня материалом. В то время я уже заболел тяжелой болезнью, продолжавшейся полтора месяца. Основательно же ознакомиться с этим материалом я мог только по выздоровлении и теперь делаю необходимое Вам заявление. Уже не раз было мне предъявлено обвинение. Его я не могу назвать иначе, как голословным, не основанным ни на каких фактических данных следствия. По существу вопроса я должен коснуться двух основных пунктов обвинения: 1) в агитации вообще и групповой в частности и 2) свидетельских против меня показаний. Прежде всего: где неопровержимые (фактические) данные, прямо, документально изобличающие меня в агитации? При всем своем ухищрении и трехмесячных усилиях следователь не мог найти ни одного (в действительности не существующих, а только в болезненном воображении – подозрении обвинения). Полное отсутствие свидетельских показаний в этом отношении красноречиво говорит само за себя в мою пользу. Наоборот, не хвалясь, могу уверенно сказать в свою защиту то, что следователю во время ведения следствия не раз приходилось слышать положительные и лестные обо мне отзывы людей разного рода. Конечно, не в интересах обвинения было помещать их в мое дело – во имя правды с точки зрения справедливости и добра. По ходу следствия (допросов) это было ясно. Если действительно в руках следователя нет никаких данных, уличающих меня в агитации, то за что же я нахожусь под стражею почти пять месяцев? Еще раз категорически, а в то же время искренне заявляю Вам, что совесть моя чиста в этом отношении – я ни в чем не виновен. А между тем во втором предъявленном мне обвинении, по которому я – подчеркиваю это – ни разу не был допрошен, не в первый раз было повторено, так сказать, отвлеченное, не имеющее под собою, по‐видимому, никакой почвы обвинение: “Вел систематическую работу пропаганды...” Чего, где, когда, при каких обстоятельствах? – неизвестно. При чтении свидетельских против меня показаний сразу же и невольно бросается в глаза подложность принадлежности их означенным авторам... Ряд навязанных друг на друга обвинений – фраз чудовищных и нелепых по своему содержанию и сущности – обличает в авторе их невменяемого человека, находящегося своим безвольным индивидуумом в полном и безраздельном распоряжении кого‐то другого. В мыслях его не видно ни логики, ни тени какого‐нибудь творчества, ни даже собственного разума, а единственно чужая воля и определенная цель лица, стоящего за спиною автора. Получается впечатление (в котором я не сомневаюсь как в действительности), что свидетель повторяет чужие слова. Принадлежностью... к церковной ориентации, к которой я не принадлежал, только и можно объяснить их наглую ложь и нелепую клевету против меня. Ввиду этого я вправе просить у Вас очную ставку с обоими свидетелями».
Вскоре после этого следователь вызвал Михаила Матвеевича на допрос, о чем он подробно затем написал в своем новом заявлении прокурору: «2 августа сего года я был вызван следователем на допрос для вторичного мне объявления об окончании следствия, а главное, для ознакомления меня с моим делом и не имею ли я желания прибавить какие‐нибудь свои замечания к уже имеющимся. Заявлений, весьма для меня важных, было не одно, но следователь не только не дал возможности занести их в протокол, но с криками и нецензурною руганью постарался как можно скорее удалить меня от себя. Обращаясь к Вам, гражданин прокурор, с жалобою на такое незаконное действие следователя, должен заявить и подчеркнуть, что подобное, далеко не корректное ко мне отношение следователя было в продолжение всего следствия надо мною. Велось оно с пристрастием, а главное, под угрозою. “Паразит!” – “Отщепенец!” – “Тебя надо было давно уже расстрелять!” – вот обычные эпитеты и приемы допроса меня, сопровождавшиеся руганью, криками, топаньем ногами и т. п. Будучи первый раз в жизни на следствии, я был буквально терроризирован и, естественно, давал неверные, может быть, показания. Если раньше не жаловался на такое явное беззаконие следователя, то потому, что, не зная правил судебного следствия, считал этот способ – порядком вещей. Теперь я не могу больше молчать и заявляю свой энергичный протест против такого насилия и издевательства, прося Вас дать свое заключение и вывод из моего заявления».
Во время судебного заседания Михаил Матвеевич отверг все обвинения.
11 сентября 1935 года подсудимым был оглашен приговор: епископ Антоний и благочинный Митрофан Вильгельмский были приговорены к десяти годам лишения свободы; священник Александр Ерошов и псаломщик Михаил Вознесенский – к пяти годам; священник Михаил Дейнека – к трем годам лишения свободы. Все они были отправлены на Дальний Восток и были заключены в тот же лагерь, где находились архиепископ Курский Онуфрий (Гагалюк) и осужденные вместе с ним священники Виктор Каракулин и Ипполит Красновский.
Священномученик Николай родился 30 октября 1894 года в селе Водопьяново Воронежской губернии в семье священника Александра Садовского. Окончив Воронежскую Духовную семинарию, Николай в 1917 году был рукоположен во священника и служил в храме в селе Водопьяново.
Началась эпоха гонений на Русскую Православную Церковь. Летом 1935 года председатель РИКа предложил православной общине сделать ремонт храма, и отец Николай пригласил рабочих, которые и приступили к ремонту. Через три дня после начала работ в церковь ворвался разъяренный начальник местного НКВД и прогнал рабочих. Отец Николай вынужден был идти к начальнику РИКа и просить, чтобы он послал комиссию для составления официального документа о необходимости проведения ремонтных работ и чтобы в этой комиссии был и представитель от РИКа. 16 июня в храм явились члены комиссии из трех человек, но среди них не было представителя РИКа, и священник им заявил, что не признает этой комиссии, и в сердцах обругал председателя РИКа.
25 июля 1935 года отец Николай был арестован и заключен в липецкую тюрьму. Кроме эпизода с комиссией, ему припомнили во время следствия и то, что 8 апреля 1935 года он зашел к жителю села, у которого в это время находился командир Красной армии, спросивший священника, есть ли Бог. Отец Николай ответил, что Бог есть; тот стал спорить, и разговор перешел на современное положение Церкви, и священник стал перечислять несправедливости, чинимые советской властью, о чем командир впоследствии донес в НКВД.
Материалы дела были переданы на рассмотрение Специальной Коллегии Воронежского областного суда, и отец Николай был переведен из липецкой тюрьмы в воронежскую; 23 октября 1935 года состоялось закрытое заседание суда. Суд приговорил священника к восьми годам тюремного заключения. Первое время он содержался в воронежской тюрьме, а затем был сослан в исправительно‐трудовой лагерь в Хабаровский край.
Священномученик Василий родился 25 февраля 1875 года в городе Старый Оскол Курской губернии в семье портного Андрея Иванова. Окончив городское училище и четыре курса Курской Духовной семинарии, он в 1910 году был назначен псаломщиком в церковь в селе Усть‐Стужень Староосколького уезда; 28 мая 1910 года он был рукоположен во диакона ко храму в селе Ярыгино Обоянского уезда и назначен законоучителем церковноприходской школы. В 1913 году диакон Василий был переведен в Архангельскую церковь в селе Любостань Суджанского уезда, а затем в село Наумовку Белгородского уезда. 15 февраля 1919 года на праздник Сретения Господня он был рукоположен во священника ко храму в селе Долбино Белгородского уезда, в 1922 году – переведен в храм в селе Ровеньки Острогожского уезда.
13 января 1930 года отец Василий был назначен служить в храм в селе Нижний Икорец Лискинского района. В это время духовенство Воронежской епархии, как и многих других, было охвачено смятением, вызванным опубликованием декларации митрополита Сергия. В храме до приезда туда отца Василия служил священник Сергий Бутузов, а уже вместе с отцом Василием – священник Петр Корыстин; оба они подчинялись архиепископу Гдовскому Димитрию (Любимову).
Отец Василий был человеком простым и совершенно не разбирался в тонкостях церковного разномыслия тех лет; прослужил он здесь всего две недели; в конце января 1930 года он был арестован и заключен в воронежскую тюрьму. Тогда же были арестованы многие священники этого благочиния и некоторых других, с которыми отец Василий и оказался в одной камере в воронежской тюрьме.
16 марта следователь допросил священника; отец Василий ответил, с кем и когда служил и что действительно слышал об отце Сергии Бутузове как о выдающемся проповеднике, а «про Корыстина я ничего не знаю и не слышал, а только одно, что он меня обманным образом оставил... а сам уехал, якобы полечиться на три дня в Воронеж, а потом и не приехал, а на меня бросил приход, как на нового и незнакомого человека».
Отца Василия снова вызвали на допрос, желая узнать, о чем говорили находящиеся вместе с ним в камере священники Феодор Яковлев и Петр Корыстин. Но отец Василий сказал, что они говорили так тихо, что трудно было расслышать.
В 1930 году священник Василий Иванов был приговорен к десяти годам заключения в концлагерь и отправлен в Хабаровский край.
Священномученик Николай родился в 1876 году в городе Вельске Вологодской губернии в семье крестьянина Константина Кулакова. Окончив вельское двухклассное городское училище, он до 1912 года служил помощником бухгалтера в вологодском губернском земстве, а затем писарем. Его хорошо знал викарий Вологодской епархии, епископ Вельский Антоний (Быстров), который в 1912 году рукоположил его во священника к одному из вологодских храмов.
В 1913 году отец Николай был назначен служить в храм Митрофаньевского подворья в Санкт‐Петербурге, одновременно исполняя обязанности секретаря архиепископа Вологодского Никона (Рождественского), члена Государственного совета и Святейшего Синода, жившего постоянно в Санкт‐Петербурге. На подворье отец Николай служил до его закрытия во время гонений от безбожных властей; затем перешел во Владимирский собор, а после его закрытия, с 1932 года стал служить в Покровской церкви на Боровой улице.
Во время службы на Митрофаньевском подворье, а затем во Владимирском соборе и в Покровской церкви, куда стали ходить и его духовные дети, отец Николай вел активную церковную деятельность, совершал истово богослужения и воспитывал прихожан в духе Евангелия и трудов святых отцов, которые глубоко изучал. Он усердно поучал духовных детей в проповедях, которые, прежде чем говорить, составлял в письменном виде, чтобы духовные дети в случае его ареста могли вникать в учение Господне, как понимал его их духовный отец.
Отец Николай был арестован 22 декабря 1933 года и заключен в одну из ленинградских тюрем. Тогда же в городе были арестованы многие священнослужители и миряне. В формулировке обвинительного заключения сотрудники ОГПУ написали: «В декабре 1933 года секретно‐политическим отделом... ОГПУ... оперативно ликвидирована ленинградская церковно‐монархическая организация... непосредственно руководимая закордонным белоэмигрантским церковно‐политическим центром...
Ставя своей конечной целью активное содействие иностранной интервенции для свержения советской власти, организация вела интенсивную контрреволюционную деятельность, заключавшуюся:
...В регулярной связи с белоэмигрантским церковно‐политическим центром, возглавляемым митрополитом Евлогием, в получении от него общего направления, конкретных руководящих указаний, литературы и денежных субсидий...
В подготовке террористического акта против тов. Сталина...
В систематической антисоветской пропаганде и агитации, проводимой как с церковного амвона, так и путем массового распространения контрреволюционной литературы, авторами которой были отдельные руководящие члены организации...
В создании подпольных “катакомбных” церквей, являвшихся местом концентрации наиболее озлобленного антисоветского элемента и служивших своеобразной демонстрацией протеста против политики советской власти.
В руководящий состав организации входили классово, политически и идеологически враждебные пролетарской диктатуре элементы – бывшие профессора духовных академий, служители культа, бывшие офицеры, бывшая аристократия и буржуазия.
Контрреволюционная деятельность организации шла в основном под прикрытием Церкви, используя ее легальные возможности для сплочения и объединения под видом религиозных формирований людей для контрреволюционных целей.
По делу в качестве обвиняемых привлекается сто семьдесят пять человек».
Будучи допрошен, отец Николай открыто изложил суть своих религиозных убеждений. «По своим политическим убеждениям, я считаю себя монархистом, – сказал он. – В вопросах религиозных я считаю себя идейным христианином, отдающим себя всецело делу единой Православной Церкви, вплоть до мученичества, когда это будет от меня требоваться. Мой долг – воспитать окружающих меня в вере, благочестии и нравственности в соответствии со священными канонами Российской Православной Церкви. В отношении моем к духовничеству я могу сказать, что этот момент я считаю для себя одним из серьезных...
Всякая власть является законной, поскольку на ее стороне сила; в случае прихода белых и свержения советской власти сила очутится на стороне белых, и власть их, как более сильная, будет законной».
Сначала следователь записывал довольно близко к тому, что говорил священник, но затем все дальше и дальше отходил от этого, а затем убедил и его подписать составленный им протокол, потому, мол, что это не имеет никакого значения.
25 февраля 1934 года тройка ОГПУ приговорила отца Николая к пяти годам заключения в исправительно‐трудовой лагерь, и он был отправлен в Севвостоклаг. Не раз, вероятно, пожалел священник, что поддался обману и обольщению следователя, и впоследствии, когда ему вновь в лагерной тюрьме пришлось противостоять натиску следователя, настойчиво задававшему один и тот же вопрос: существует ли в лагере контрреволюционная группировка, возглавляемая архиепископом Онуфрием и епископом Антонием, в которую входит заключенное в лагере духовенство, он, наученный тяжелым опытом, категорично отказался подтвердить лжесвидетельство и заявил: «О существовании контрреволюционной группировки я не знаю. Антисоветской агитации никто не ведет. Я лично тоже антисоветской агитации не вел».
Священномученик Максим родился 13 августа 1885 года в деревне Борки Тюменского уезда Тобольской губернии в семье крестьянина Петра Богданова. Окончив три класса сельской школы, Максим работал в своем хозяйстве; в 1924 году он стал служить в храме псаломщиком; в 1928 году – был рукоположен во священника и служил в храме в селе Бугуртак Курагинского района Красноярского края.
После организации в начале 1930‐х годов колхозов власти от не вошедших в колхоз единоличников стали требовать, чтобы они полностью засеивали отведенную им землю, но только рекомендованными самими же властями зерновыми культурами. Причем семена крестьяне‐единоличники должны были покупать за свой счет. По опыту прошедших лет крестьяне знали, что, сколько ни сей, осенью власти заберут почти весь урожай, мало что останется для пропитания семьи и ничего не останется для посева на следующий год – и им снова придется покупать семена за свой счет и почти всегда в долг. Из‐за отсутствия семян часть крестьян в селе Бугуртак отказалась засевать свои поля весной 1933 года, и сотрудники районного отдела ОГПУ, расценив это как антигосударственный заговор, приняли решение арестовать их и священника.
16 апреля 1933 года отец Максим и пятеро крестьян были арестованы и заключены в районную тюрьму. Крестьяне подтвердили, что они отказались от посева, назначенного единоличникам, и подписались под протоколами показаний, в которых говорилось, что их действиями руководил приходской священник и что будто бы отец Максим им говорил: «Долго будешь вспоминать старое время: хорошо жил народ, всего было в достатке, каждый порядочный мужик имел стадо скота, полные закрома хлеба. А сейчас посмотришь на жизнь – печальная картина получается: мужиков всех обобрали, накладывают непосильные налоги, все “дай” и без конца “дай”. Сейчас основательно нажимают на посевную, но ведь надо подумать, что мать‐земля хлеб родит один раз в год, а хлебозаготовки требуют несколько раз».
Все арестованные крестьяне признали себя виновными, и только священник на вопрос, признает ли он себя виновным, категорично ответил, что виновным себя не признает. Была устроена очная ставка священника с одним из свидетелей, но и тогда отец Максим твердо сказал, что в предъявленном обвинении виновным себя не признает, «так как такими делами не занимался».
13 мая 1933 года особая тройка ПП ОГПУ Запсибкрая приговорила крестьян к пяти годам заключения в исправительно‐трудовом лагере, а священника – к десяти годам. Их отправили этапом в Минусинск и здесь, выстроив перед воротами лагеря, зачитали приговор.
Священномученик Александр родился 8 августа 1876 года в селе Очесо‐Рудня Гомельского уезда Могилевской губернии в семье священника Иерофея Саульского. В 1899 году Александр окончил Могилевскую Духовную семинарию и в 1903‐м был рукоположен во диакона и священника и служил в Троицком храме в селе Мхиничи Чериковского уезда Могилевской губернии; 11 февраля 1906 года он был назначен настоятелем этого храма. С 1912‐го по 1917 год отец Александр служил полковым священником, и ему не раз приходилось исполнять священнические обязанности с риском для жизни во время боевых действий.
За беспорочную службу отец Александр был возведен в сан протоиерея и с 1926 года служил в Знаменской церкви в городе Тихвине Санкт‐Петербургской епархии; он был благочинным 1‐го Тихвинского благочиния, в которое входило в то время одиннадцать приходов.
В начале 1930‐х годов священника несколько раз вызывали свидетелем по делам арестованного в Тихвине духовенства. В 1932 году его вызвали по делу священника Иоанна Сарва, обвиненного в том, что он якобы совершил отпевание сторонницы митрополита Иосифа (Петровых), которая завещала, чтобы ее отпел священник, одинаковых с ней идейных воззрений. Ее родственники обратились к отцу Александру; будучи осведомлен о воле почившей, протоиерей Александр отказал им в просьбе, и они отправились к священнику Иоанну Сарву, который также отказался совершить отпевание. Ее отпел архимандрит Тихвинского монастыря, который юридически был зарегистрирован как обновленец, но считалось, что он является единомышленником сторонников митрополита Иосифа. «Что же касается Иоанна Сарва, – свидетельствовал на допросе отец Александр, – то могу подтвердить, что он является сергиевцем. В антисоветской агитации и контрреволюционных выступлениях Сарв мною не замечался»80. Отец Иоанн тогда был освобожден.
1 января 1934 года сотрудники ОГПУ арестовали отца Александра и он был заключен в одну из тюрем Ленинграда. Будучи сразу же допрошен, он отрицал какую бы то ни было вину, заявив, что его оклеветали, и назвал имена клеветников и причины, по которым он был оговорен. Следователи не удовлетворились ответами священника и продолжали допрашивать его, требуя, чтобы он высказал свое отношение к советской власти и дал показания о разговорах, которые велись среди духовенства. 5 января священник подписал показания, в которых говорилось, что среди духовенства обсуждались политические вопросы, касавшиеся взаимоотношений Советского Союза с Америкой, от которых духовенство ожидало перемены политики советской власти по отношению к религии.
После этого допроса были произведены дополнительные аресты духовенства и мирян. На допросе 12 января отец Александр еще более расширил свои показания и на вопрос, каковы его политические убеждения, ответил: «Я настроен по отношению к советской власти непримиримо враждебно и считаю, что наиболее приемлемой формой государственной власти в России была бы монархия, ограниченная парламентом. Свое убеждение я высказывал среди местных тихвинских священников, которые его разделяли. Для обсуждения политических вопросов мы собирались главным образом у меня».
Затем он подписал протокол допроса с показаниями, что собиравшиеся вместе священники обменивались мнениями о неизбежности войны и соображениями о гибели, в связи с войной, советской власти. Подчинившись давлению следователей, священник показал:
– Эти разговоры впоследствии разносились среди верующих, создавая недоверие к советской власти и враждебное к ней отношение. В области религиозной деятельности группа по указаниям Рудича* ставила своей целью укрепление религиозных верований в народе проповедью, которая сплачивала бы вокруг Церкви глубоко верующих, готовых принять во имя спасения веры и Церкви мученический венец... Я часто говорил верующим о гонениях на нашу Церковь вымышленные вещи с целью воздействия на их религиозные чувства, в частности о том, что мне запрещают ходить по приходу, хотя в действительности такого запрещения не было.
– Чего добивалась ваша группа своей контрреволюционной деятельностью? – спросил его следователь.
– Конкретно о целях мы не говорили, однако считали, что успех интервенции, на которую мы рассчитывали, зависит в значительной степени от той помощи, которая ей будет оказана внутри СССР антисоветскими элементами, которых мы считали долгом собрать и объединить вокруг Церкви, как одной из легальных возможностей в условиях диктатуры пролетариата.
26 февраля 1934 года тройка ОГПУ приговорила протоиерея Александра к пяти годам заключения в концлагерь, и 7 марта того же года он был отправлен в Севвостоклаг в город Владивосток.
Арестованный в начале 1938 года в лагере вместе с епископами и духовенством, он, учитывая опыт предыдущего ареста и вполне осознавая глубину проявленного им тогда малодушия, на этот раз на требование следователя рассказать о контрреволюционной группе и антисоветской агитации перечисленных ему следователем священников, ответил: «О существовании контрреволюционной группировки я ничего не знаю. Антисоветских высказываний среди священнослужителей я не слыхал. Сам я никогда антисоветской агитации не вел».
Священномученик Павел родился 13 января 1890 года в селе Сысой Сараевского уезда Рязанской губернии в семье крестьянина Ильи Попова. Образование Павел получил в учительской семинарии, некоторое время он пел в церковном хоре и в 1918 году был рукоположен во священника.
С 1934 года отец Павел стал служить в храме в селе Панское Мичуринского района Воронежской области. 14 сентября 1935 года отец Павел был арестован и заключен в мичуринскую тюрьму. Ему предъявили стандартное по тем временам обвинение в антисоветской агитации. Лжесвидетелями против священника выступили жители села, мало его знавшие, а также дежурные свидетели, вовсе его не знавшие. Одни обвинения отец Павел категорически отверг, а о других сказал, что с людьми, давшими эти показания, совсем незнаком. Как одно из доказательств преступлений священника сотрудники НКВД привели случай, когда он совершил в храме Таинство Соборования множества прихожан, и заявили, что, совершая соборование, священник тем самым дал понять, что все храмы вскоре закроют и негде будет собороваться, а поскольку храмы, как о том заявляли власти публично, они закрывать не собираются, то, следовательно, священник клеветал на советскую власть. Были проведены очные ставки, но отец Павел отверг показания всех лжесвидетелей.
18 декабря 1935 года в Мичуринске состоялось закрытое заседание Выездной сессии спецколлегии воронежского областного суда, куда был доставлен священник и вызваны свидетели. Они подтвердили все данные ими ранее показания, которые отец Павел еще раз категорически отверг. В тот же день суд был закончен. Священник Павел Попов был приговорен к пяти годам тюремного заключения83 и отправлен в Хабаровский край.
Священномученик Павел родился 23 октября 1889 года в селе Помялово Новоладожского уезда Санкт‐Петербургской губернии в семье псаломщика Троицкой церкви Алексея Павловича Брянцева и его супруги Марии Николаевны84. Алексей Павлович скончался в 1902 году; с этого времени Мария Николаевна стала получать пособие от епархиального попечительства, а дети были приняты обучаться на казенный счет. Павел окончил Александро‐Невское духовное училище и в 1908 году поступил в Санкт‐Петербургскую Духовную семинарию. Окончив в 1911 году семинарию, он стал учителем Ларионовского земского училища в Новоладожском уезде Санкт‐Петербургской губернии. 18 июля 1914 года он был призван в действующую армию и 11 ноября того же года был ранен в бою под Ловичем. За мужественное поведение на фронте Павел Алексеевич был награжден серебряной медалью на Георгиевской ленте. 6 июня 1916 года он был из‐за ранения признан негодным к военной службе. В госпитале он познакомился со своей будущей женой, сестрой милосердия Евдокией Алексеевной Свиридовой, которая была знакома с великой княгиней Елизаветой Федоровной и просила ее помочь Павлу Алексеевичу.
10 ноября 1916 года великая княгиня направила ходатайство ректору Петроградского университета, прося его «оказать содействие к зачислению в число студентов Петроградского университета бывшего сельского учителя Павла Алексеевича Брянцева. Находясь в 217‐м Ковровском полку рядовым, Брянцев был ранен в ногу, и у него одна нога короче другой. Вследствие этого увечья, он не может учительствовать в начальном училище, так как ему трудно много ходить, а школьному учителю приходится во время занятий быть все время в движении, чтобы следить за работой всех учеников. Для продолжения педагогической деятельности Брянцеву необходимо получить высшее образование. Это даст ему возможность быть преподавателем в среднем учебном заведении».
В 1916 году Павел Алексеевич был принят на историко‐филологический факультет Петроградского университета. В 1918 году он был направлен учителем в Вындино‐Островскую единую трудовую школу. 3 мая 1919 года митрополит Петроградский Вениамин (Казанский) рукоположил его во диакона ко храму Пресвятой Троицы в селе Помялове, а в 1921 году он был рукоположен во священника и служил в селе Мемино Петроградской епархии.
9 декабря 1933 года отец Павел был арестован с группой духовенства и мирян Волховского и Киришского районов. В обвинительном заключении сотрудники ОГПУ, пытаясь оправдать репрессии, писали: «В конце декабря 1930 года Волховским оперсектором было отмечено оживление среди наиболее реакционной части духовенства.
Внешне это выражалось в организации торжественных соборных богослужений, тщательно подготавливаемых и обставляемых с максимальной помпезностью, с расчетом на привлечение внимания культурноотсталых масс крестьянства на поднятие и укрепление среди них веры и увеличения числа молящихся.
Естественно, что это же влекло за собой объединение и сплочение духовенства и давало возможность использования нелегальных сборищ в контрреволюционных целях.
Внутренний процесс шел по линии прощупывания, выявления и консолидации активных действенных элементов для борьбы с диктатурой пролетариата как среди духовенства, так и среди активных церковников‐мирян.
В этот же период было отмечено распространение среди духовенства контрреволюционной литературы, которая под флагом борьбы с безбожием призывала духовенство и верующих к сплочению для борьбы с советской властью».
Во время обысков при аресте духовенства были изъяты рукописи стихов, написанных священником Павлом Брянцевым: «На Новый Завет без изъяна евангелиста Демьяна», «Емельяну Ярославскому», «Свобода и рабство», «К свободе», «Альфа и Омега» и других. Стихи с удовольствием читались духовенством во время встреч и переписывались.
Будучи арестован и убежден следователем высказать свое отношение к советской власти, священник, зная, что рукописи написанных им стихов уже находятся в ОГПУ, заявил, что он является давним врагом большевиков и считает их врагами трудящихся. Одним из мотивов его прихода на служение в Церковь, по его словам, была ненависть к большевикам, а Церковь оставалась на тот момент единственной легальной организацией, отрицательно оценивающей большевистскую революцию. Он изложил свои взгляды в форме, предложенной следователями, и, проявив явное малодушие, признал себя виновным, а также и единомысленных с ним священников. Отец Павел заявил, что они агитировали крестьян против организации колхозов и стихотворение о Демьяне Бедном он написал по просьбе благочинного. Он признал, что его произведения являются контрреволюционными, и рассказал, что он переписал их в шести экземплярах и распространил. Под давлением следователя он подписался под показаниями, что признает «себя виновным в том, что принял участие в контрреволюционной деятельности группы священников, имевшей своей целью путем распространения провокационных слухов о войне и гибели советской власти, а также путем использования религиозных предрассудков крестьянских масс сорвать мероприятия советской власти в области колхозного строительства... в том, что написал контрреволюционные стихотворения, призывающие к объединению духовенства и верующих для борьбы с советской властью».
26 февраля 1934 года тройка ОГПУ приговорила отца Павла к пяти годам заключения в концлагерь, и он был отправлен в Севвостоклаг. Из лагеря он 15 июня 1934 года писал родным: «Шлю вам сердечный привет и желаю всего наилучшего, а наиболее – тихого и безмятежного жития в домашней обстановке, что всего дороже. Я вот не сумел удержаться и угодил за одиннадцать тысяч километров. Но это всё ничего. Угодить мне и надо было – сам избрал этот путь, а вот плохо, что полгода я не имею известий... и явился я сюда с сильно истощенным организмом, поэтому, как слабосильный, несу обязанности сторожа. Дежурю на посту двенадцать часов в сутки. Заболел цингой, а излечиться здесь нечем...»
Описывая свое положение в заключении, отец Павел писал в январе 1936 года родным: «Семнадцатый месяц живу по‐дорожному, как на вокзале, и все время думаю, что скоро поеду побыстрей; тогда в три месяца доберусь до дому. В августе и сентябре... хлеба ел досыта и несколько поокреп, а сейчас пока начинаю сдавать, довольствуясь 500 граммами хлеба в сутки... Лежим... семьдесят пять человек в одном месте, думаем одно и ждем одного: отправки. И нас не огорчают – все говорят, что отправим. Было нас сто пятьдесят, но к октябрьским дням 50 % отправили, но я не попал в их число. Здоровье сносное: если бы грудь не болела, то был бы совсем здоров. По формуляру в груди имеется: склероз, миокардит, туберкулез, эмфизема и плеврит, так что сердце и легкие не того... Хорошо бы сахарку, да уж ладно...»
1 января 1937 года отец Павел писал дочери: «Не думай, что годы детства и юности – лучшие годы жизни; нет, эти годы – лишь годы подготовки к жизни, и хорошо поживет лишь тот, кто сумеет за эти годы хорошо подготовиться. Не унывай при мимолетных неприятностях: их уже нет – они уже ушли в невозвратное прошлое, старайся создавать хорошее настоящее и верить в лучшее будущее – вот те несложные правила жизни, какие вынес из нее я... Я тебя уже года четыре не видал, и ты за эти годы, без сомнения, изменилась... Скоро тебе стукнет семнадцать, а я помню тебя тринадцатилетней. Что касается меня, то я по сравнению с прошлым значительно похудел, вешу пятьдесят шесть килограмм... теперь стригусь и бреюсь, и всем бы был молодой, да зубов на верхней челюсти нет – цинга съела – и морщиноват маленько... Выпавшие на мою долю испытания переношу довольно бодро... И хотя иногда приходится туго, но ведь я видал на веку и худшее... Уже четвертый год я в условиях заключения, но скажу, что в германскую было похуже. Если бы я не был инвалид, то жил бы хорошо, так как зарабатывал бы, а теперь невольно приходится все время отдыхать от неперенесенных трудов. Осталось мне еще двадцать три месяца, так как чувствую, что раньше не отпустят – иначе давно бы отпустили – из‐за наклеенной мне статьи 58 пункт 11. Хотя она и напрасно пристала ко мне, но ведь после драки кулаками не машут. Я раньше не знал законов, а то добивался бы применения ко мне статьи 59 пункт 7... В сущности, ведь виноват я кой в чем, – ну и посижу. Я подал в Москву во ВЦИК ходатайство, да не надеюсь на благоприятный результат, опять‐таки из‐за статьи. Ну, будь что будет!..»
В тот же день он написал:
«Суровый край, прекрасный, но не милый,
Где дни мои томительно текли,
Ты мне грозишь безвременной могилой
Вдали от Родины и от друзей вдали».
В феврале 1938 года против священника было начато новое «дело», которое лагерные следователи объединили с делом святителей Онуфрия и Антония и заключенного в лагерь духовенства. 27 февраля отец Павел был вызван на допрос к следователю, который заявил, что ему известно, что на их подконвойном участке существует контрреволюционная организация, в которую входит подследственный, и потребовал, чтобы он указал ее членов. Перечислив несколько имен, следователь потребовал назвать, кто возглавляет контрреволюционную организацию и через кого осуществляется связь с волей. Наученный горьким опытом первого следствия и лагерными страданиями, отец Павел заявил, что ему ничего неизвестно о существовании контрреволюционной организации, а также и о ее деятельности. Если некоторые заключенные и выражали свое недовольство советской властью, то в чем оно выражалось, он не помнит.
17 марта 1938 года священник Павел Брянцев был приговорен вместе с другими к расстрелу, но умер еще до исполнения приговора – 13 мая 1938 года и был погребен в безвестной могиле.
Священномученик Георгий родился 1 января 1883 года в селе Матренка Нижняя Усманского уезда Тамбовской губернии в семье псаломщика Александра Богоявленского. Во время Первой мировой войны он служил полковым писарем, после революции – псаломщиком в храме. В 1930 году он был рукоположен во священника к Покровскому храму в селе Верхний Телелюй Липецкой области.
Весной 1935 года власти приняли решение закрыть храм, а для этого арестовать священника. Несколько местных колхозников, председатель колхоза и секретарь сельсовета оговорили отца Георгия, заявив, что священник Георгий Богоявленский ругал советскую власть, вел антиколхозную агитацию, говорил, что колхозы распадутся, а в доме колхозника Столповского, перед совершением по приглашению хозяина всенощного бдения, агитировал против советской власти и спаивал колхозников. Вызванный в качестве свидетеля Столповский решительно опроверг лжесвидетельства.
8 мая 1935 года отец Георгий был арестован, заключен в тюрьму в городе Усмани и на следующий день допрошен.
На допросе он заявил: «По поводу колхозов разговоров никаких... не вел, а равно и не ругал советскую власть... В декабре 1934 года был я в пункте Заготзерно, помещающемся в церкви, и при входе в церковь заметил расхищение: снята церковная шелковая занавесь… и не оказалось стекол в иконах. После чего я полез на колокольню в кладовку, где хранилось двенадцать листов железа для ремонта крыши церкви, – тоже такового не оказалось. Равно сняты совсем с лицевой стороны церкви водосточные трубы». При храме был сторож, «я спросил его – куда девались эти вещи? Тот заругался неприличными словами... говоря: “здесь все народное”. В ответ я ему сказал, что здесь не народное, а государственное имущество, за него целиком отвечает церковь и группа верующих...
Что же касается показаний председателя сельсовета, будто я 6 января сего года по вызову его явился пьяный в сельсовет и по требованию с меня налога я как будто ответил, что он не имеет права с меня требовать и называл советскую власть “апрельским снегом”, – это полнейшая и лживая ложь со стороны председателя сельсовета… Председатель сельсовета никогда не вручал мне документов, по коим уплачиваются налоги, и не знает сроки их платежей… Первый срок платежа 1 марта, а не в январе, и пьяным я никогда в совете не был…»
В заключение отец Георгий потребовал от следователя вызова дополнительных свидетелей, «которые действительно покажут, что таких слов и разговоров про советскую власть не велось». Это было следователями отвергнуто потому, мол, что «обстоятельство, о котором ходатайствует обвиняемый, в достаточной степени установлено», и материалы «дела» были направлены в суд.
23 июля 1935 года в 10 часов утра началось закрытое заседание Выездной сессии Воронежского областного суда. Выступая в суде, отец Георгий сказал: «В предъявленном обвинении виновным себя не признаю и поясняю, что 15 декабря 1934 года я был в церкви, заметил, что оторвана занавесь церковная из алтаря, вынуты стекла из икон и взяты листы железа, предназначенные для ремонта крыши. По адресу советской власти я ничего не выражал. У себя на квартире и у Столповского я по адресу порядка управления также ничего не говорил; против колхозов агитацию не вел. В сельском совете 6 января 1935 года я был, но опять‐таки против советской власти не выражался, и о партии также не выражался».
Некоторые из вызванных в суд свидетелей подтвердили лжесвидетельства, хотя и в значительно меньшем числе эпизодов, нежели на предварительном следствии, а основные свидетели и вовсе не были вызваны. В последнем слове отец Георгий заявил, что «обвинение ему было предъявлено на почве личных счетов с председателем сельсовета и все это клевета». В тот же день суд зачитал приговор. Священник Георгий Богоявленский был приговорен к пяти годам заключения в исправительно‐трудовом лагере и отправлен на Дальний Восток.
В марте 1938 года арестованные святители и духовенство были перевезены из лагеря в благовещенскую тюрьму. 17 марта 1938 года тройка НКВД приговорила их к расстрелу.
1 июня 1938 года архиепископ Онуфрий (Гагалюк), епископ Антоний (Панкеев), священники Ипполит Красновский, Митрофан Вильгельмский, Александр Ерошов, Михаил Дейнека, Николай Садовский, Василий Иванов, Николай Кулаков, Максим Богданов, Александр Саульский, Павел Попов, Георгий Богоявленский и псаломщик Михаил Вознесенский были расстреляны и погребены в безвестной общей могиле.
Использован материал книги: «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Май». Тверь. 2007. С. 137‐228
Страницы в Базе данных ПСТГУ: Онуфрий (Гагалюк), архиепископ Курский, Антоний (Панкеев), епископ Белгородский, Виктор (Каракулин), Ипполит (Красновский), Митрофан (Вильгельмский), Александр (Ерошов), Михаил (Дейнека), Матфей (Вознесенский), Николай (Садовский), Василий (Иванов), Николай (Кулаков), Максим (Богданов), Александр (Саульский), Павел (Попов), Павел (Брянцев), Георгий (Богоявленский), мученик Михаил (Вознесенский)
Священномученика архиепископа Дамиана
(Воскресенский Дмитрий Григорьевич, +03.11.1937)
День памяти 3 ноября (21 октября ст.ст.)
Священномученик Дамиан, в миру –– Дмитрий Григорьевич Воскресенский, родился 23 октября 1873 года в селе Брусовое Фатежского уезда Курской губернии в семье священника. После Курского Духовного училища окончил Курскую Духовную семинарию (в 1894 году).
В 1894-1895 годах служил псаломщиком в с. Николаевка Путивльского уезда родной губернии, позже, до 1897 года, был смотрителем в Старооскольском Духовном училище.
6 января 1897 года Дмитрий Григорьевич был рукоположен в сан иерея. После принятия священства четыре года служил в Свято-Преображенском соборе г. Путивля.
В 1901 году отец Димитрий поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, которую окончил в 1905-м кандидатом богословия.
Кроме духовного образования, будущий священномученик имел также светское высшее (окончил Археологический институт).
27 ноября 1904 года, будучи еще студентом Академии, он принял монашеский постриг с именем Дамиан, а после окончания этого духовного учебного заведения иеромонах Дамиан был назначен преподавателем гомилетики Смоленской Духовной семинарии.
В 1907–1908 годах отец Дамиан снова стал смотрителем Старооскольского, а позже – Обоянского Духовных училищ. А 28 июля 1911 года, уже в сане архимандрита, Дамиан стал ректором Смоленской Духовной семинарии и пребывал на этой должности до 1917 года.
29 апреля (12 мая за н. ст.) 1918 года архимандрит Дамиан был рукоположен в городе Владимире во епископа Переяславского (г. Переславль-Залеский, ныне Ярославской епархии). Это была первая архиерейская хиротония, совершенная по благословению Святейшего Патриарха Тихона.
До 1927 года святитель Дамиан пребывал в этом сане. Первый арест его состоялся уже 6 октября 1920 года. Владимирский губернский ревтрибунал вынес Владыке приговор: держать в тюрьме на все время гражданской войны и "применить самый суровый карательный режим и обязательные принудительные работы в стенах тюрьмы". В 1921-м владыка Дамиан вышел на свободу, но уже в следующем году был снова арестован и осужден на три года ссылки. Отбывал он ее в Средней Азии, в Туркмении (поселок Теджен), с 1923 до 1925 года (по другим данным, он находился в этой ссылке в 1922–1924 годах).
После освобождения, в 1925–1927 годах (с незначительным перерывом в конце 1925 – начале 1926-го) епископ Дамиан временно руководил Владимирской епархией.
В 1927 году владыка Дамиан получил сан архиепископа и назначение на Полтавскую кафедру. С мая этого года он архиепископ Полтавский и Переяславский, одновременно руководит также Екатеринославской епархией.
С 25 апреля 1928 года до июля 1932-го Владыка руководил Курской кафедрой. В родном городе архиепископ Курский и Обоянский Дамиан пережил еще два ареста – в феврале 1930-го и в июле 1932 года. После последнего ему уже не суждено было выйти на свободу.
В этот раз его обвинили в "руководстве контрреволюционной церковно-монархической организацией "Ревнители Церкви". 26 декабря 1932 года Владыку осудили по статье 58-10, ч. 2, 11 УК РСФСР и определили наивысшую меру наказания – расстрел, который был заменен 10-ю годами исправительно-трудовых лагерей.
Почти пять лет Владыка находился в Соловецком лагере особого назначения. Но в 1937 году его перевели на тюремное содержание, а вскоре Особая тройка при УНКВД СССР по Ленинградской области вынесла ему еще один смертный приговор, который в этот раз был выполнен. Владыку Дамиана расстреляли 3 ноября 1937 года в печально известном урочище Сандормох, который находится неподалеку от города Медвежегорска (Карелия).
Священномученик архиепископ Дамиан (Воскресенский) был канонизирован 20 августа 2000 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви по представлению Курской епархии.
Использован материал официального сайта Полтавской епархии Украинской Православной Церкви.
Страница в Базе данных ПСТГУ
Священномученика Иоанна, епископа Рыльского, викария Курской епархии
(Пашин Иван Дмитриевич, +11.03.1938)
День памяти 11 марта (26 февраля ст.ст.)
Священномученик Иоанн родился 8 мая 1881 года в городе Петрикове Мозырского уезда Минской губернии в семье священника Димитрия Пашина и его супруги Надежды, дочери священника Никольской церкви в местечке Скрыгалове Василия Завитневича. Отец Димитрий скончался, когда Ивану было всего три года, и Надежда Васильевна переехала вместе с младенцем к своим родителям в Скрыгалов, и Ивану вместо отца стал дед, протоиерей Василий, которому, по‐видимому, он и оказался обязан многими своими христианскими качествами.
В 1890 году Иван был отдан учиться за казенный счет в Слуцкое духовное училище, после окончания которого его в 1895 году приняли учиться за казенный счет в Минскую Духовную семинарию.
В 1901 году Иван окончил Духовную семинарию и обвенчался с девицей Антониной, дочерью купца из Вышнего Волочка Тверской губернии. 21 октября 1901 года он был рукоположен во диакона, а 22 октября – во священника к Покровской церкви села Князь‐Озеро Мозырского уезда. 15 февраля 1903 года протоиерей Василий Завитневич ушел по преклонности лет за штат, и на его место настоятелем Никольской церкви был назначен отец Иоанн Пашин. Здесь он в первую очередь докончил дело, начатое дедом, – достроил часовню в память священномученика Макария, митрополита Киевского, убитого татарами в окрестности Скрыгалова в 1497 году. Часовня была освящена 1 мая 1905 года в день празднования памяти священномученика. Стараниями отца Иоанна было организовано Свято‐Макарьевское Братство и открыта женская школа. 4 ноября 1907 года верующее население Скрыгалова торжественным крестным ходом встретило ковчег с частицей мощей священномученика Макария, прибывший из Киева на станцию Птичь. В следующем, 1908 году, празднование памяти священномученика собрало около десяти тысяч богомольцев – небывалое для этих мест число молящихся.
В 1909 году отец Иоанн был назначен настоятелем храма святого великомученика и Победоносца Георгия в селе Прилепы Минского уезда. В первый же год своего служения здесь он открыл одноклассную церковноприходскую школу в деревне Избицке, помещение для которой было предоставлено помещиком Н.И. Демидовым, он же взял на себя расходы по отоплению и освещению школы.
Как и в предыдущем приходе, отец Иоанн старался, чтобы в храме была особая святыня, которая бы привлекла молящихся и помогла бы создать в их душах молитвенный настрой и поддержала веру. Одним из замечательных событий стало появление в Георгиевской церкви списка Иверской иконы Божией Матери, которая была написана на Афоне и при громадном стечении народа с крестным ходом принесена в Георгиевский храм. Отец Иоанн ревностно следил за просвещением прихожан, при храме была организована продажа молитвословов и духовных книг, под руководством священника действовали пять церковноприходских школ. При храме им было организовано Прилепское общество трезвости, которое, увеличиваясь с каждым годом, переросло в Братство трезвости, где был свой устав, гимн и знамя‐хоругвь. Со временем храм не стал уже вмещать всех молящихся, и в 1912 году священник составил план и смету на строительство большей каменной церкви, основное строительство ее было завершено в 1914 году, а освящена она была 21 августа 1916 года.
В 1915 году священника постигло горе: в возрасте тридцати двух лет скончалась его супруга Антонина Васильевна, и он остался с двумя детьми восьми и тринадцати лет.
31 июля 1916 года отец Иоанн подал прошение о принятии его в Петроградскую Духовную академию, на первый курс которой он и был зачислен 17 августа. В документе, выданном ему епископом Минским Митрофаном (Краснопольским), отец Иоанн характеризовался как принадлежащий «к лучшей части духовенства. Состоя настоятелем прихода, расположенного среди католического населения, он тесно сплотил около православного храма свою паству. Своей воодушевленной проповедью создал в приходе движение трезвости и, как идейный работник в борьбе за трезвость, принимал горячее участие в Московском противоалкогольном всероссийском съезде. Решение продолжить образование в Духовной Академии у него появилось сразу же после смерти жены и, вероятно, выношено было еще во время ее продолжительной болезни».
В 1917 году в России произошла безбожная революция, все духовные образовательные учреждения были закрыты, и отец Иоанн вернулся служить в Георгиевский храм в село Прилепы.
В 1921 году храм посетил епископ Минский Мелхиседек (Паевский), объезжавший приходы епархии. В 1922 году усилиями безбожных властей в Русской Православной Церкви возник обновленческий раскол, и в июле 1922 года епископ Мелхиседек объявил об автономии Белорусской Церкви и стал митрополитом Минским и Белорусским.
7 апреля 1923 года в минском Петропавловском кафедральном соборе владыка Мелхиседек в сослужении епископов Вяземского Венедикта (Алентова) и Гжатского Феофана (Березкина) хиротонисал отца Иоанна во епископа Мозырско‐Туровского, викария Минской епархии. Первое время епископ Иоанн жил в Мозыре, а затем обосновался на своей родине в городе Петрикове. Приступив к исполнению архипастырских обязанностей, он энергично принялся за дело, взяв себе за правило частое посещение храмов вверенного ему викариатства. Пользуясь тем, что власти законодательно не запретили преподавание частным порядком Закона Божия и всего относящегося к православной вере, он стал регулярно собирать у себя детей, разучивать с ними церковные песнопения и преподавать им Закон Божий.
В 1926 году власти арестовали епископа. Будучи допрошен, владыка Иоанн заявил: «Я, как человек сильных и твердых убеждений религиозных и как епископ, вел работу в пределах установленных властью законов».
26 марта 1926 года приговором Особого Совещания при Коллегии ОГПУ епископ Иоанн был лишен права проживания в крупных городах страны и выслан из Петрикова. В Великий Четверг 1926 года епископ последний раз отслужил на родине Божественную литургию и, испросив прощения у прихожан, вышел из собора. Люди шли за владыкой до пристани, а затем еще долго шли в холодной воде за баржей, на которой увозили владыку.
Высланный из Петрикова, епископ не пожелал терять связи со своей паствой и поселился в городе Лоеве Гомельского округа, где, по мнению властей, «вновь развернул антисоветскую работу, выразившуюся в нелегальном управлении епархией...»
18 сентября 1926 года епископ Иоанн был приговорен к трем годам ссылки в Зырянский край. По окончании ссылки в 1929 году, ему было запрещено жить в некоторых городах и за ним был установлен административный надзор. Митрополит Сергий (Страгородский) назначил его епископом Рыльским, викарием Курской епархии. На пути в Рыльск владыка заехал к архиепископу Курскому Дамиану (Воскресенскому), чтобы поставить его в известность о полученном им от митрополита Сергия назначении.
В конце двадцатых – начале тридцатых годов советская власть усилила гонения на Русскую Православную Церковь; в это время она приступила к уничтожению традиционного крестьянского быта под видом организации колхозов, во главе которых стала ставить подчиненных центральному аппарату партийных чиновников. Крестьяне не приняли этой формы и стали оказывать сопротивление, отстаивая традиционную и естественную для себя форму жизни и хозяйствования. Власти обвинили в агитации против колхозов членов Русской Православной Церкви. На территории Курской и Орловской областей почти одновременно было арестовано тогда более трехсот человек – епископов, священников и православных мирян, и в их числе архиепископ Дамиан (Воскресенский) и епископ Иоанн (Пашин).
В августе 1932 года был арестован священник города Рыльска Константин Одинцов. 28 августа 1932 года власти арестовали епископа Иоанна и он был заключен в тюрьму ОГПУ в городе Курске. 26 сентября 1932 года следователь допросил владыку.
Столкнувшись с нравственной твердостью и неудобосклоняемостью епископа к лукавству, следователь заявил, что против него свидетельствуют подчиненные ему священники, и в частности Константин Одинцов. В ответ владыка 2 октября 1932 года дал собственноручные показания, в которых писал: «Священника города Рыльска Константина Одинцова знаю в течение трех лет. Одинцова я считаю порядочным человеком, взаимоотношения у меня с Одинцовым были служебные, наши политические убеждения – в смысле полного подчинения гражданской власти – совпадали, оба мы стояли на платформе митрополита Сергия, возглавляющего Церковь, к которой принадлежим. Я и Одинцов признавали советскую власть единственной законной властью в СССР, политика которой отвечала нашим настроениям. Никаких недоразумений между мною и Одинцовым не было, злобы не питали друг к другу. Одинцова не считаю способным сделать на меня какойлибо ложный донос или оклеветать меня».
В ноябре 1932 года следствие было закончено. Владыку обвинили в том, что он «являлся руководителем контрреволюционных групп церковно‐монархической организации “Ревнители Церкви” в городе Рыльске и в том же районе. На протяжении 1930–1932 годов в городе и в деревнях насаждал контрреволюционные группы, направляя их контрреволюционную деятельность против коллективизации сельского хозяйства...»
В обвинительном заключении по этому делу следователи ОГПУ написали: «В октябре 1931 года в городе Обояни, Обоянском районе и городе Курске раскрыта и ликвидирована контрреволюционная церковно‐монархическая организация, ставившая своей главной задачей объединение вокруг себя всех антисоветских элементов города и деревни, путем поднятия массового выступления крестьянства против советской власти, и восстановление монархического строя.
Контрреволюционная организация... возникла в ноябре 1930 года и была неразрывно связана с архиепископом Курским Дамианом...
Ко дню ликвидации организация в своем составе насчитывала 47 человек. По социальному положению они делятся так: священников 26, монашествующего элемента 3, бывших офицеров 2, бывших торговцев 2, бывших дворян 2, служащих 1 человек, кулаков 1, середняков 8 человек и бедняков 2. При этом последняя категория, то есть середняки и бедняки, в большинстве стали членами организации исключительно на почве религиозных убеждений...»
«В июне и в июле 1932 года по западной части Центрально‐Черноземной области прокатилась волна контрреволюционных массовых выступлений и отдельных восстаний. Эти выступления, начавшиеся в период окончания весеннего сева, изо дня в день всё более возрастали, и только в конце июля началась нормальная уборка созревших хлебов...
По 57 районам, охваченным антиколхозным движением, было 580 массовых выступлений с участием в них до 63 000 человек. Из числа колхозников этих районов было охвачено движением около 3200 колхозов на территории свыше 450 сельсоветов. Массовые выступления сопровождались также разгромом помещений сельских советов и правлений колхозов...
Вскрытые Полномочным Представительством ОГПУ по Центральной Черноземной области ранее (1931 г.) контрреволюционные церковно‐монархические образования в районах, охваченных в июне–июле 1932 года массовым антиколхозным движением, неизменно определяли со стороны этих образований, формировавшихся из церковных элементов так называемого сергиевского течения, наличие активных проявлений, направленных против социалистического переустройства деревни...
Контрреволюционные массовые выступления в западной части области в июне–июле 1932 года как по организованности, так и по масштабу, несомненно, как это установлено следствием, явились результатом подготовительной деятельности контрреволюционной церковно‐монархической организации “Ревнители Церкви”, возглавляемой указанным епископом Дамианом...
В отдельных местах имели место избиения сельских активистов, попытки к убийству и даже случаи убийства, как и попытки толпами свыше 500 человек, вооруженными косами, тяпками и вилами, отбить арестованных...
В отдельных селах массовые выступления происходили под лозунгами:
“Отдайте землю и волю и крестьянскую власть”.
“Советская власть нас ограбила, нам нужна власть без колхозов”.
“Долой колхозы, долой советскую власть бандитов, давайте царя”.
Выступления с участием свыше 4500 человек имели место в этот период в селах Потапахино, Кулаге, Троицком, Нагольном и других этого района и Чермашнянского сельсовета, смежного Солнцевского района, где, под указанными выше лозунгами, организованными толпами было расхищено колхозное имущество, изгнан сельский актив и в ряде случаев учинены над ним расправы.
Следствием по настоящему делу установлена связь контрреволюционной церковно‐монархической организации “Ревнители Церкви” с антиколхозным движением...
По делу контрреволюционной церковно‐монархической организации “Ревнители Церкви” проходит 413 человек, из них 3 епископа, 127 попов и дьяконов, 106 монахов и монашек, 70 кулаков, 11 бывших дворян, помещиков, полицейских и других. В числе проходящих по настоящему делу осуждено за контрреволюционную деятельность 136 человек и выделено в особое производство 149 человек.
Контрреволюционная церковно‐монархическая организация “Ревнители Церкви” строилась применительно к церковно‐иерархической структуре и формировалась из реакционного духовенства, монашествующего элемента, бывших людей и кулачества...»
«Рыльское объединение контрреволюционной организации “Ревнители Церкви” возглавлялось административно‐высланным епископом Иоанном Пашиным (город Рыльск) и имело в своем составе 6 групп с 30 участниками...»
«Группы “Ревнителей Церкви”, возникавшие под непосредственным руководством духовенства так называемого Сергиевского направления, возглавлявшегося Курским архиепископом Дамианом, в начальный период своего развития складывались как образования религиозного характера, лозунгом которых была борьба с безбожием и сплочение вокруг Церкви верующих...
По мере развития борьбы в деревне за сплошную коллективизацию и ликвидацию на этой основе кулачества как класса под влиянием агитации сложившихся групп “Ревнителей Церкви” и примыкавших к ним отдельных лиц, главным образом монашествующего элемента, ряды этих групп расширялись за счет затронутых процессом социалистического строительства кулацко‐контрреволюционных элементов...
Контрреволюционное духовенство и монашество, скрывавшееся под флагом декларации о признании советской власти митрополитом Сергием, использовало концентрацию вокруг Церкви контрреволюционного кулачества и повело организационную работу по сплочению его для борьбы с пролетарским государством...»
7 декабря 1932 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило епископа Иоанна к десяти годам заключения в концлагерь. По тому же делу был арестован и приговорен к пяти годам заключения епископ Орловский Николай (Могилевский), с которым владыка Иоанн пробыл затем несколько лет в лагерях.
Владыка Николай хорошо знал Татьяну Николаевну Гримблит (мученица, память празднуется 10/23 сентября), которую многие епископы называли современным Филаретом Милостивым из‐за ее щедрости в помощи ссыльному духовенству. Епископ Николай, получив открытку от нее, из которой стало известно, что она освободилась, сообщил ее адрес епископу Иоанну, и между ними завязалась переписка, которая продолжалась почти до мученической кончины обоих.
«Родная, дорогая Татьяна Николаевна! – писал владыка Иоанн. – Письмо Ваше получил и не знаю, как Вас благодарить за него. Оно дышит такой теплотой, любовью и бодростью, что день, когда я получил его, был для меня одним из счастливых, и я прочитал его раза три подряд, а затем еще друзьям прочитывал: владыке Николаю и отцу Сергию – своему духовному отцу. Да! Доброе у Вас сердце, счастливы Вы, и за это благодарите Господа: это не от нас – Божий дар. Вы, по милости Божией, поняли, что высшее счастье здесь, на земле, – это любить людей и помогать им. И Вы – слабенькая, бедненькая – с Божьей помощью, как солнышко, своей добротой согреваете обездоленных и помогаете как можете. Вспоминаются слова Божии, сказанные устами святого апостола Павла: “Сила Моя в немощи совершается”. Дай Господи Вам силы и здоровья много‐много лет идти этим путем и в смирении о имени Господнем творить добро. Трогательна и Ваша повесть о болезни (имеется в виду арест – на условном языке переписки тех лет) и дальнейших похождениях. Как премудро и милосердно устроил Господь, что Вы, перенеся тяжелую болезнь, изучили медицину и теперь, работая на поприще лечения больных, страждущих, одновременно и маленькие средства будете зарабатывать, необходимые для жизни своей и помощи другим, и этой своей святой работой сколько слез утрете, сколько страданий облегчите... Помоги Вам, Господи! Работаете в лаборатории, в аптеке? Прекрасно. Вспоминайте святого великомученика Пантелеимона Целителя и его коробочку с лекарствами в руках (как на образах изображают) и о имени Господнем работайте, трудитесь во славу Божию. Всякое лекарство, рассыпаемое по порошкам, разливаемое по скляночкам, да будет ограждено знамением Святого Креста. Слава Господу Богу!
На этот путь вступили многие из нашей братии – и близкие мне, например епископ Венедикт, бывший Вяземский, – соловчанин, участвовавший в моей хиротонии, не знаете ли, где он Иеромонах Агапит (Фесюк), живший и у меня года три, перенесший не однажды тюремное заключение, затем ссылки, лагерь и так далее, а в прошлом году заведовал медпунктом около Красного Холма Калининской области, а теперь замолчал, видно, опять начал путь уз. Жаль, что и я пропустил время и не занялся этим делом. А теперь уж стар, пятьдесят пять лет, и больно измочалился. И мне уже в марте исполняется десять лет разного рода уз, а в лагерях уже три с половиной года. В Рыльске я отсидел срок и со дня на день ожидал получить вольную, а вместо этого экстренно взяли в Курск, далее в Воронеж, где отсидел месяца два в изоляторе – в одиночке, и месяца четыре в домзаке. В последнем условия были ужаснейшие, от тесноты и ног некуда было протянуть, и месяца два с половиной голодал, пока не прибыла Мария Ивановна, – тогда наладилась передачка. За дня три до Святой Пасхи прибыли в Темниковский лагерь. И сразу на работу – убирать и жечь сучья в лесу. Но поработал я только недели две, а затем заболел сыпняком. Отвезли в центральный госпиталь. Думал, не выживу: ведь сердце слабое, но Господь сохранил еще на покаяние. Месяца полтора лежал, а затем последовательно побывал на трех лагерных пунктах в течение года, и хотя сразу был зачислен в инвалиды, но по воле и неволе работал всякого рода работку (до 30 видов), но больше на заготовке дров. Месяца два эту работу мы исполняли маленькой бригадой: три епископа и протоиерей. Епископы: знакомый Вам владыка Николай Орловский, Кирилл Пензенский и я грешный. Интересно было глядеть на нас: как мы по пояс в снегу искали валежник, пилили его, рубили, а то спиливали сухие деревья и с пня – значит, было дело вроде лесоповала.
В мае 1934 года очутились в Сарове, где и пробыли год. Счастье было каждый день быть на могилке преподобного Серафима, наслаждаться видом святых храмов и священных изображений на них. Снаружи святые храмы остались без изменений, и так приятно было ходить в монастырской ограде, переносясь мыслию в прошлое, и чувствовать облагоуханный молитвой воздух. Работали месяца три в канцелярии, а затем в августе, по дикой клевете обвиненные в присвоении чужих вещей (один человек добрый посещал нас и внезапно умер, оставив у нас вещи), мы четверо (я, владыка Николай, протоиерей один и иеромонах – жившие в одной комнате) попали в изолятор на полгода. Опять начались физические работы, и часто очень тяжелые, – например, месяца два катали так называемые баланы, то есть бревна, опять пилили дрова, собирали и жгли сучья. Господь укреплял. Не ласковы там были к нам, даже зачетов лишали “за исполнение религиозных обрядов”.
В мае 1935 года перегнали нас пешком верст за двенадцать на Протяжную – это тоже пункт Сарлага. Здесь работали с месяц на лесном складе по уборке и в лесу, а затем заболели все мы малярией, да такой жестокой, – уж больно сердце мое страдало, прямо думал, смертушка приходит. Хинина не было, лечили уколами. Больше месяца болел, пока не отправили в Алатырскую колонию – конечно, тот же самый лагерь. Неделю были в пути, хотя это переезд был в пределах одного Горьковского края. Что нам, не оправившимся от малярии, стоил этот переезд, можете представить. Эта колония расположена в верстах тридцати от города Алатыря. (А Алатырь верст двести не доезжая до Казани.) Из Алатыря к нам (все время лесом) идет ветка, но поезд ходит очень редко, так что приезжающие на свидание верст двадцать большей частью идут пешком. Здесь уж мы не работаем: нет подходящей работы, да и приустали, признаться, и здоровьем слабеньки стали. Здесь место разгрузки, отпуска домой, но мимо нас проходят сотни, чуть не тысячи людей, а нас забывают, обходят. Божия воля, покоряемся ей. Если иметь помощь со стороны, то жить кое‐как можно. С этой помощью у меня часто бывает заминка. Родные как‐то забывают меня (Божие мне это испытание!), а родные по духу не всегда имеют чем помочь мне. Больше всех мне оказывает помощь Мария Ивановна, которая, при некоторой неуравновешенности своего характера, оказалась, однако, более других способной к самопожертвованию. Не ограничиваясь посылочками, она приезжала ко мне еще в Темниках на свидание, а теперь по моей просьбе переехала в Алатырь, помогает мне передачками и ожидает или моего освобождения, или перехода в вечность, как я ее просил: буду умирать – хоть глаза мне закроешь. А о смерти думаю все больше и больше. Молитва святителя Иоасафа Белгородского на каждый час стала моей любимой молитвой: “О, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, в час смерти моея приими дух раба Твоего в странствии суща – молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь”.
Вот Вам краткая повесть о последних годах моего странствования. Простите. Пока, дорогая, обо мне не беспокойтесь, необходимое у меня есть, а будет нужно, попрошу разве что‐нибудь из одежки или белья. А письмо мне бодренькое опять напишите. Велика у Вас вера, велика и любовь, они согревают сердца людей – знакомых и единомысленных Вам. Дай Бог в радости и здравии встретить Вам великие праздники: Вход Господень во Иерусалим и Благовещение, сострадать Христу Спасителю на Страстной. Господь да хранит Вас.
С любовью и молитвой недостойный епископ Иоанн.
16/29 марта 1936 года
Воистину воскресе! Дорогая, родная Татьяна! Пишу Вам это письмо почти с пути. Собрался в дорогу и переезжаю, но, кажется, в пределах того же Горьковского края. Это уже 10‐й переезд за три с половиной года лагерной жизни. Сижу на узлах и чемодане в ожидании поезда и вдруг получаю Ваше письмо. Как луч солнца, оно осветило несколько мрачное состояние души, ободрило, пристыдило в малодушии. Спаси, Господи, и возрадуй Вас и временною здесь, и вечною там радостию. Ваше письмо прочитал друзьям, слушали многие – и всем стало радостнее. Владыка Николай пока остается здесь, а я с отцом Сергием и еще многими отцами отправляемся, кажется, в один из Ветлужских лагерей. Верим в лучшее, твори, Господи, волю Твою. Мария Ивановна пока остается в Алатыре. По прибытии постараюсь написать Вам.
Храни Господь Вас. С любовью и молитвой епископ Иоанн. 3/16 апреля».
В Ветлужских лагерях владыка пробыл почти год, а затем был отправлен в Ухтпечлаг в город Чибью Коми области, куда он прибыл 9 мая 1937 года. За время заключения и особенно этапов, когда в течение продолжительного времени он не получал ниоткуда ни посылок, ни писем, его одежда пришла в совершенную ветхость, а ботинки рассыпались, так что на новом месте в лагере он уже ходил в лаптях.
23 июня 1937 года владыка писал Татьяне Гримблит: «Родная Татьяна Николаевна! Если Вам не сообщили, где я, то узнайте из моего этого письма. Адрес мой на обороте. Жив и здоров. Живу здесь почти два месяца. Никто мне не пишет. Работаю на цветниках. Ничего – посильно. Очень нуждаюсь в ботинках и брюках. Пришлите Бога ради. Прибавьте и теплую рубаху и шапку 62 размера. Здесь холодно. А если сможете, то прибавьте сахарку, чаю, сгущенного молока и чего сможете, а также мыла. Получив ответ, напишу больше, а пока всего‐всего доброго. Епископ Иоанн Пашин».
В начале лета 1937 года епископ выполнял работы по озеленению парка культуры и отдыха в Чибью. В это время в парке работал сторожем священник, с которым владыка познакомился в Ветлаге. Владыка иногда заходил к нему, так как тот жил в землянке недалеко от парка, и хотя в землянке он жил не один, но все же ему было выгорожено отдельное помещение, в котором можно было помолиться, зная, что за тобой не наблюдают недобрые глаза лагерного начальства из заключенных или вольных. Один раз владыке удалось даже помыться в землянке. Затем епископ был направлен работать сторожем аптекобазы в сангородок.
31 октября 1937 года техник парка культуры и отдыха в городе Чибью и комендант стадиона и парка, оба заключенные, обнаружили три креста, прибитые к стволам деревьев, о чем тут же сообщили оперуполномоченному Ухтпечлага НКВД. Другие кресты оказались прибиты к зданию, выходящему на стадион, и к одной из трибун. Лагерная администрация решила придать этому событию значимость преступления против государства. Подозрение пало на заключенного священника, который работал в парке сторожем, а затем был уволен за то, что не вышел на работу в праздник Покрова Божией Матери. 31 октября у священника был произведен обыск, изъяты икона, три крестика и несколько церковных книг; на следующий день священник был арестован и допрошен. На допросе следователь спросил, откуда тот знает епископа Иоанна, священник ответил, что познакомился с ним год назад в другом лагере, где они оказались вместе. Следователь спросил, признает ли себя священник виновным в контрреволюционной пропаганде, то есть в том, что он повесил в парке кресты. Священник ответил, что виновным себя не признает, крестов не вешал, да и к тому же кресты, которые ему показали, являются католическими.
Допрошенные техник и комендант показали, что, когда священник жил в землянке при парке, его посещал епископ Иоанн Пашин, и они полагают, что он вместе со священником развесил кресты. Этих показаний оказалось достаточно, чтобы арестовать владыку, предъявив ему обвинение в проведении контрреволюционной пропаганды с использованием «религиозных предрассудков и в практической религиозной деятельности, выразившейся в распространении крестов путем развешивания их на деревьях парка культуры и отдыха Ухтпечлага НКВД».
2 декабря 1937 года в бараке у владыки был произведен обыск и изъято пять церковных книг и тетрадь, и в тот же день он был арестован и допрошен.
– Признаете ли вы себя виновным в контрреволюционной пропаганде и практической религиозной деятельности, заключающейся в распространении крестов путем развешивания их на деревьях парка культуры и отдыха Ухтпечлага НКВД? – спросил следователь.
– Виновным себя я не признаю. Крестов в парке отдыха на деревьях я не вешал, – ответил владыка.
– Откуда вы взяли отобранные у вас молитвенники и записи и для какой цели вы их хранили?
– Молитвенники и записи я получил в посылках, когда был в Ветлаге, после я перевез их в Ухтпечлаг. Молитвенники я держал для личного пользования.
– Что вы можете дополнить в свое оправдание?
– Дополняю, что перед праздником 20‐летия Октябрьской революции я в Чибью не работал и находился в сангородке, где был с 27 сентября сего года.
На этом допросы закончились, были допрошены комендант и техник, которые ничем не могли доказать, что кресты в парке повесили владыка и священник. Были допрошены все, кто жил в одной землянке со священником и кто видел владыку приходящим в парк, но никто не мог показать не только в пользу обвинения, но и то, что епископ и священник молились в лагерной землянке.
6 декабря 1937 года главная аттестационная комиссия Ухтпечлага НКВД выдала справку на владыку, в которой писала: «К порученной работе относится удовлетворительно. Распорядка лагеря не нарушает. 10 апреля 1935 года лишен всех ранее произведенных зачетов рабочих дней за плохой труд».
14 декабря следствие было закончено. В обвинительном заключении помощник оперуполномоченного госбезопасности написал: «Иван Дмитриевич Пашин, отбывая срок наказания в Ухтпечлаге и выполняя работу от ХОЗО по озеленению Чибью, проводил контрреволюционную пропаганду, используя религиозные предрассудки. В парке культуры и отдыха Ухтпечлага в специально оборудованной землянке устраивали сборища духовных и других неизвестных лиц. В указанном помещении проводились моления с песнопением и обрядами в рабочее время. В религиозные праздники Пашин не работал и призывал к этому других лагерников. Перед праздником 20‐летия Великой Октябрьской революции в парке культуры и отдыха Ухтпечлага НКВД были на деревьях и на трибуне прибиты деревянные кресты. При обыске у Пашина обнаружены религиозные книги и записи».
5 января 1938 года тройка НКВД приговорила епископа к расстрелу. Епископ Иоанн (Пашин) был расстрелян 11 марта 1938 года в городе Чибью Коми области и погребен в безвестной могиле.
Использован материал книги: «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Февраль». Тверь. 2005. С. 437‐451
Страница новомученика в Базе данных ПСТГУ: епископ Иоанн (Пашин).
Священномученика епископа Иоасафа
(Жевахов Владимир Давидович, +04.12.1937)
День памяти 5 декабря (22 ноября ст.ст.)
Священномученик Иоасаф, епископ Могилевский (в миру Владимир Давидович Жевахов), родился в 1874 году в Полтавской губернии, он происходил из княжеского рода и был потомком святителя Иоасафа Белгородского. Закончив университет, князь Владимир Жевахов до 1917 года состоял на государственной службе. Он был глубоко верующим человеком, дружил с писателем Сергеем Нилусом.
В 1924 году Владимир Давидович был арестован в Киеве и 7 месяцев провел в тюрьме. Освободившись, он отправился в Зверинецкий скит и принял там монашеский постриг с именем Иоасаф. Этот скит был основан в 1912 году по инициативе князя Жевахова, на средства которого производились раскопки древнего Киева. Когда в киевском «зверинце» был обнаружен древний пещерный монастырь 12 века, на том же месте был основан Зверинецкий скит, почетным попечителем которого стал князь Жевахов.
В 1926 году в Нижнем Новгороде иеромонах Иоасаф (Жевахов) был рукоположен в епископский сан митрополитом Нижегородским Сергием (Старгородским). Владыка Иоасаф начал свое архипастырское служение в качестве викария Курской епархии. В тот же год он был арестован и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения, где находился 3 года. После он отбывал такой же срок ссылки в Нарымском крае. С 1934 года епископ Иоасаф занимал Могилевскую кафедру. Но уже через 2 года был отправлен на покой и поселился в Белгороде. Здесь он был арестован последний раз и приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в день вынесения, 4 декабря 1937 года, в Курске.
Использован материал сайта радиостанции Град Петров.
Страница новомученика в Базе данных ПСТГУ: епископ Иоасаф (Жевахов).
Священномученика Иувеналия
(Масловский, +1937)
День памяти 24 (11) октября
Священномученик Иувеналий, епископ, Рязанский и Шацкий (в миру Масловский Евгений Александрович) родился 15 января 1878 года в городе Ливны Орловской губернии в благочестивой семье дворянина Александра Масловского и его жены Анны. Во святом Крещении его назвали Евгением. Одарённый природным умом, он отличался благородством, великодушием, волевым и целе-устремлённым характером. В гимназические годы в его парте всегда лежало Евангелие.
В 1900 году Евгений поступил в Казанскую Духовную Академию (где ректором в то время был преосвященный Антоний (Храповицкий)) и на II курсе — 10 февраля 1901 года — он принял монашеский постриг с именем Иувеналий в честь Патриарха Иерусалимского (память 2 июля). 25 февраля того же года он рукополагается в иеродиакона, а 31 июня 1902 года архиепископ Казанский и Свияжский Димитрий (Самбикин) посвящает его в иерея.
После окончания Академии со степенью кандидата богословия отец Иувеналий год служил в Урмийской Православной миссии в Персии, после чего получил назначение на должность преподавателя гомилетики в Псковскую Академию, а ещё через полтора года по указу Святейшего Синода становится настоятелем Спасо-Елиазаровского Великопустынского мужского монастыря. В июне 1906 года он был возведён в сан игумена, а 16 октября назначается в Новгородский первоклассный Юрьев монастырь на должность настоятеля и на протяжении четырёх лет управляет им в сане архимандрита.
Хиротония отца Иувеналия во епископа Каширского, викария Тульского, была совершена 24 августа 1914 года в Троицком соборе Александро-Невской Лавры. Незадолго до Октябрьских событий 1917 года (28 июля) его назначили на Тульскую кафедру, где вскоре, как практически во всех других епархиях, открылась волна жестокого преследования Церкви.
В 1923 году Владыка вместе с протоиереем Успенским и старостой Сынтарёвым были осуждены за отправление молебна перед иконой Божьей Матери, найденной на колокольне Казанского храма, а за отказ отдать комиссарам церковные ценности, совет храма приговорили к трём годам лишения свободы. Всего с начала года в связи с кампанией по изъятию церковных ценностей в Туле было расстреляно и замучено более шестидесяти служителей Христа. Епископа власти вынуждены были в августе выпустить.
17 октября 1923 года Указом Священного Синода епископ Иувеналий возводится в сан архиепископа Курского. К этому времени в Курске закрыли все двенадцать домовых храмов, а остальные обратили в места увеселений и надругательств.
В феврале 1924 года был арестован по обвинению в «антисоветской агитации» и отправлен в Соловецкий концлагерь и сам Владыка — к тому времени на Соловецком архипелаге находилось уже более 120-ти священнослужителей, 25-ть из которых были архиереями.
Будучи известным литургистом и обладая исключительной памятью на церковные песнопения, Владыка начал в условиях лагеря трудиться над «Архиерейским Торжественником», составившим впоследствии три тысячи страниц. Владыка сделал попытку связать практику древне-русских архиерейских служб, содержащихся в Чиновниках Московского Успенского собора, Холмогорско-Преображенского собора, Нижегородского Преображенского собора и Новгородского Софийского собора с современной церковной практикой, подведя различные местные особенности под единые правила для всех архиерейских служб. К сожалению, рукопись была утрачена в 1935 году.
После ходатайства митрополита Сергия (Страгородского) перед властями об амнистии некоторым из заключённых священнослужителей, поданного им 7 октября 1927 года, Владыка смог вернуться из заключения. По возвращении в 1928 году он был назначен на Рязанскую кафедру и восстанавливал её после обновленческих потрясений. Рязанцы помнят его как любящего и доброго пастыря. Его молитвенная настроенность сообщалась всем присутствовавшим на богослужениях: паства и Святитель в это время были «единыя усты и едино сердце». Даже глубокой ночью прихожане спешили к своему Владыке в Иерусалимский храм на монашеские богослужения и сразу по окончании шли в собор, куда Владыка, не замечая ни времени, ни усталости, должен был придти для совершения Литургии Преждеосвящённых Даров.
В мае 1928 года митрополит Серий направил Владыку, как члена Временного Патриаршего Синода, для достижения согласия к отделившемуся от него после выхода «Декларации» авторитетнейшему иерарху митрополиту Ярославскому Агафангелу. Благодаря особой мягкости характера, Владыке удалось смягчить разрыв митрополита Агафангела с Заместителем Местоблюстителя митрополитом Сергием.
Владыка принимал в епархию возвращающихся из ссылок священнослужителей, давая им приходы и по возможности помогая материально. В 1935 году арестованный священник из Старожиловского района иеромонах Анатолий (Купряшкин) бежал из-под стражи и около недели скрывался в доме Владыки. Так он помогал скрываться и другим. В декабре 1934 года им был пострижен с именем Фотий вернувшийся из ссылки протоиерей Александр Турлевский, будущий епископ Читинский.
22 января 1936 года Владыка был арестован и приговорён к пяти годам лагерей. Вот что значится в документах по его обвинению: «являлся организатором и вдохновителем контрреволюционной группы духовенства, монашества и церковников, систематически с духовенством из числа арестованных вёл контрреволюционные суждения, давал установки контрреволюционного характера, в частности, о переводе Церкви на нелегальное положение, лично сам служил в церкви торжественную панихиду по бывшему русскому царю Николаю 2-му, произнес в церкви речь контрреволюционного содержания во время своего 20-летнего юбилея (имеется в виду двадцатилетие с архипастырского служения — Сост.), он же разрешал производство тайных постригов, комплектовал вокруг церкви учащуюся молодежь...» (сохранена орфография и фразеология подлинника).
Эти слова легли дорогим мученическим венцом на могилу доброго пастыря и патриота, положившего, по слову Спасителя, «душу свою за овцы своя» (Ин. 10:11).
Заключение Святитель проходил в Сиблаге (Томская ж. д.), работая сторожем, счетоводом и на общих работах по десять часов в день. Летом 1937 года он был переведён в лагерь для инвалидов. 30 сентября 1937 года Святитель был осужден и приговорен к расстрелу. Владыку расстреляли в ночь с 11 на 12 октября (24 н. ст.) 1937 года.
В сохранившихся его письмах из мест заточения он остаётся несломленным и бодрым духом, сообщая о себе, что в «последнее время пришлось пережить столько назидательного, отрадного, мистического» и что «отсюда у меня и бодрость духа, и мир в душе, и сознание, насколько мы ничтожны и как велика сила Божия и Его милость к нам». Даже находясь в заточении Святитель не забывал поздравить всех своих близких с праздниками и именинами.
Прославлен в Соборе Рязанских святых 10 (23) июня 1992 года Указом Святейшего Патриарха Московского всея Руси Алексия II.
Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.
Использован материал сайта Православие.ru
Страница в Базе данных ПСТГУ
Священноисповедника архиепископа Луки
(Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович, +11.06.1961)
День памяти 11 июня (29 мая ст.ст.)
Священноисповедник Лука родился 14 апреля 1877 года в городе Керчи Таврической губернии в семье провизора Феликса Станиславовича и его супруги Марии Дмитриевны Войно‐Ясенецких и в крещении был наречен Валентином. Феликс Станиславович был ревностным католиком, часто ходил в костел и подолгу молился дома, но своих домашних, по кротости своего характера, он не принуждал принимать католицизм. Мария Дмитриевна по рождению была православной, но в храм никогда не ходила и исповедовала скорее протестантизм, нежели православие, стараясь совершать добрые дела, помогая, например, заключенным. Таким образом, будущий святитель с детства не получил никакого религиозного воспитания и если имел какую‐то религиозность, то, по его словам, скорее унаследованную «главным образом от очень набожного отца».
В конце восьмидесятых годов семья Войно‐Ясенецких поселилась в Киеве, где Феликс Станиславович поступил служить в страховое общество «Надежда». В 1896 году Валентин окончил Киевскую гимназию и, как одаренный выдающимися художественными способностями, одновременно и Киевскую художественную школу. Во время обучения он участвовал в одной из передвижных выставок «небольшой картиной, изображавшей старика‐нищего, стоящего с протянутой рукой. Влечение к живописи у меня было настолько сильным, – вспоминал он впоследствии, – что по окончании гимназии решил поступать в Петербургскую академию художеств.
Но во время вступительных экзаменов мной овладело тяжелое раздумье о том, правильный ли жизненный путь я избираю. Недолгие колебания кончились решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей. Из академии я послал матери телеграмму о желании поступить на медицинский факультет, но все вакансии были уже заняты... через год меня опять непреодолимо повлекло к живописи. Я отправился в Мюнхен, где поступил в частную художественную школу профессора Книрр. Однако уже через три месяца тоска по родине неудержимо повлекла меня домой, я уехал в Киев и еще год с группой товарищей усиленно занимался рисованием и живописью».
При вручении аттестата по окончании гимназии директор вручил Валентину, как это было в то время принято, Новый Завет как благое напутствие на дальнейшую жизнь; эта книга определила впоследствии всю его жизнь. Он стал ее внимательно читать. Особенно его поразили слова Христа, обращенные к апостолам: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» [Мф. 9, 37]. – «О Господи! – воскликнул мысленно юноша, у которого буквально дрогнуло сердце при этих словах. – Неужели у Тебя мало делателей?!»
Валентин Феликсович принадлежал к тем редким, исключительно значимым для народа людям, которые не могут делать что‐то лишь для себя, ограничиться деланием того, что лично им нравится, для них долг служения ближним – не пустые слова, и потому они в своей деятельности занимаются не чем попало, не идут вслед случайного выбора, не строят на чужом фундаменте, но стараются найти то, что необходимо сделать сейчас и что полезно для всего общества. Это – строители, делатели, выходящие на ниву по призыву Господа, одни – сеять, другие, входя в их труд, – жать.
Вернувшись из Мюнхена, он «каждый день, а иногда и дважды в день ездил в Киево‐Печерскую Лавру, часто бывал в киевских храмах и, возвращаясь оттуда, делал зарисовки того, что видел в Лавре и храмах». Он вспоминал: «Я сделал много зарисовок, набросков и эскизов молящихся людей, лаврских богомольцев, приходивших туда за тысячу верст...»
Однако желание оказывать практическую помощь своему народу возобладало, и в 1898 году Валентин Феликсович поступил на медицинский факультет Киевского университета имени святого равноапостольного князя Владимира, где показал блестящие дарования в области медицины, в чем немало ему помог талант и практический опыт в области рисунка. Уже на втором курсе его товарищи по университету говорили, что он будет профессором анатомии, что со временем и сбылось, – Валентин Феликсович стал профессором топографической анатомии и оперативной хирургии.
Но немало были удивлены его сокурсники, когда узнали при вручении дипломов в 1903 году, что Валентин Феликсович, имея все дарования ученого, собирается стать врачом земской больницы. Однако практическое исполнение этого желания пришлось отложить, так как началась русско‐японская война, и 30 марта 1904 года Валентин Феликсович в составе отряда Российского общества Красного Креста выехал на Дальний Восток. Отряд расположился в Чите, где Валентин Феликсович приступил к исполнению обязанностей хирурга, предварительно хорошо проштудировав книгу известного французского хирурга Лежара «Неотложная хирургия», которая, кроме того что «представляла собой классическое руководство по военно‐полевой хирургии, где рассматривались различные способы оперативных вмешательств», рассматривала вопросы местного обезболивания, только начинавшегося тогда применяться при хирургических операциях.
В Чите Валентин Феликсович женился на дочери управляющего крупным имением в Черкасской губернии Анне Васильевне Ланской, приехавшей с тем же отрядом Красного Креста, а до этого работавшей медицинской сестрой в Мариинской общине сестер милосердия. Анна Васильевна привлекла его не только своей красотой, но также исключительной добротой и кротостью, в госпитале ее называли «святой сестрой». Два врача просили ее руки, но она отказала им, так как дала Богу обет девства. Соглашаясь на брак с Валентином Феликсовичем, она нарушала обет и в ночь перед венчанием долго молилась перед иконой Спасителя. И ей показалось, что Христос отвернул от нее Свой лик и Его образ исчез из киота. Это было Господним напоминанием о данном ею обете, которым, однако, она пренебрегла, и Господь, показывая, что всякая добродетель дается только Им и всякий дар свыше исходит лишь от Него, наказал ее патологической ревностью, от которой она тяжело страдала всю жизнь, ибо подлинно любить, и любить до конца, всем сердцем и всем помышлением, можно только Христа.
Незадолго до окончания войны Валентин Феликсович получил место заведующего городской земской больницей в городе Ардатове Симбирской губернии, но через несколько месяцев ему пришлось отказаться от работы в ней. Объясняя причины этого, он говорил впоследствии, что в ардатовской больнице он «сразу столкнулся с большими трудностями и опасностями применения общего наркоза при плохих помощниках, и уже там у меня возникла мысль о необходимости, по возможности, избегать наркоза и как можно шире заменять его местной анестезией. Я решил перейти на работу в маленькую больницу и нашел такую в селе Верхний Любаж Фатежского уезда Курской губернии. Однако и там было не легче, ибо в маленькой участковой больнице на десять коек я стал широко оперировать и скоро приобрел такую славу, что ко мне пошли больные со всех сторон... Вспоминаю курьезный случай, когда молодой нищий, слепой с раннего детства, прозрел после операции. Месяца через два он собрал множество слепых со всей округи, и все они длинной вереницей пришли ко мне, ведя друг друга за палки и чая исцеления».
«Чрезмерная слава сделала мое положение в Любаже невыносимым. Мне приходилось принимать амбулаторных больных, приезжавших во множестве, и оперировать в больнице с девяти часов утра до вечера, разъезжать по довольно большому участку и по ночам исследовать под микроскопом вырезанное при операции, делать рисунки микроскопических препаратов для своих статей, и скоро не стало хватать для огромной работы и моих молодых сил».
Валентин Феликсович перешел тогда работать в уездную больницу в городе Фатеже. Здесь, однако, ему пришлось проработать недолго. Однажды он не смог, оставив все дела, поехать к заболевшему исправнику. Председатель земской управы счел, что это было сделано с умыслом и чуть ли не из революционных целей, и постановлением управы Валентин Феликсович был уволен со службы. В ближайший базарный день один из вылеченных им слепых влез на бочку и произнес зажигательную речь по поводу увольнения врача, и под его предводительством собравшаяся толпа отправилась громить земскую управу, где, по счастью, кроме одного чиновника, никого не было. Но Валентину Феликсовичу пришлось спешно уехать из города.
В 1909 году он переехал в Москву и приступил к практическим исследованиям по теме «Регионарная анестезия», где он явился открывателем новых методов обезболивания. В это время у них с женой было уже двое маленьких детей, жить им в Москве было не на что, и Валентин Феликсович уехал с семьей в село Романовку Балашовского уезда Саратовской губернии, где стал работать в больнице на двадцать пять коек, а затем переехал в город Переславль‐Залесский, где получил место главного врача и хирурга в уездной больнице на пятьдесят коек. Во всех больницах, где ему приходилось трудиться, Валентин Феликсович не только добросовестно и с полной отдачей сил исполнял свои обязанности, но и старался внести принципиальные улучшения в деятельность медицинских учреждений. Невозможно было при огромном наплыве больных в верхнелюбажской больнице обходиться без третьего фельдшера, и Валентин Феликсович поставил вопрос перед Уездным земским собранием о привлечении третьего фельдшера. Ему было отказано. Он тут же обратился к Собранию о пересмотре этого решения, пригрозив, что иначе откажется продолжать службу в этой больнице. Собрание было вынуждено пересмотреть решение и выделить для больницы средства на содержание третьего фельдшера.
Валентин Феликсович предложил ряд мероприятий для поднятия профессионального уровня врачей в Балашовском уезде, в частности, публиковать на средства Балашовского земства ежегодные отчеты о деятельности больницы, что способствовало бы сохранению богатого и разнообразного клинического материала, создать уездную медицинскую библиотеку, собрав в ней лучшие труды по медицине и медицинские журналы, и создать патологоанатомический музей, где были бы собраны препараты, иллюстрирующие случаи, редко встречающиеся в практике земских врачей, что способствовало бы предотвращению многих ошибок; однако большая часть этих предложений не была принята, и он оставил свою службу в этой больнице, хотя ему некуда тогда было ехать. Далеко не всегда его предложения находили поддержку администрации, но он готов был лучше отказаться от службы, чем от принципов. А за земное благополучие он никогда не держался.
В то время для хирургов «оставался сомнительным способ обезболивания, который следовало применить... чтобы... предупредить страдания больного... Выбор обезболивающих средств был ограничен, как правило, эфиром или хлороформом»8, которые «нередко приводили к... передозировке, являвшейся... причиной гибели оперируемых больных...».
«...Земские врачи и их помощники были вынуждены учиться... на собственном опыте, который достигался дорогой ценой, методом проб и ошибок. Эти печальные результаты приводили к выводу, что проведение наркоза может стать опаснее хирургической операции. Отсюда рождались отказы земских врачей либо от хирургической деятельности вообще, либо от применения наркоза при оперативных вмешательствах...»
Молодой земский врач стал изучать европейскую литературу, касающуюся этого вопроса. Идя по пути совершенствования знаний с помощью самообразования, Валентин Феликсович подробно фиксировал результаты своего врачебного опыта. В течение двух с половиной лет – в 1906‐м, 1907‐м и части 1908 года – он выполнил шестьсот семьдесят шесть больших и малых хирургических операций, причем только 18 % их были выполнены под общим наркозом, в тех случаях, когда операция без него была невозможна.
«Он окончательно убедился, что “хирургу‐самоучке, какими по печальной необходимости, по его выражению, должны быть многие земские врачи, местная анестезия дает возможность спокойно и осторожно делать свои первые шаги на трудном пути хирургии, не мучаясь заботой о наркозе, сосредоточивая все свое внимание только на операции”».
В 1915 году Войно‐Ясенецкий опубликовал книгу «Регионарная анестезия»; в ней был обобщен его «личный опыт, какого не было в этом виде обезболивания ни у кого из хирургов нашей страны». Валентин Феликсович предупреждал, что сложность применения различных способов регионарной анестезии «при первом приближении является кажущейся. Не надо пугаться этого обманчивого впечатления. Каждый из новых способов настолько разработан, что “от начинающего требуется лишь точное исполнение технических правил инъекции и топографо‐анатомические сведения лишь в том объеме, в каком они необходимы для каждого хирурга”...
Отсюда вытекал важный практический вывод: описание каждой методики регионарной анестезии должно представлять собой простую и точную инструкцию, не допускающую двоякого толкования, чтобы земский врач любой квалификации мог воспользоваться нужным ему способом». За эту работу Варшавский университет присудил ему премию имени Хойнацкого, при которой полагалось денежное вознаграждение. Но его Валентин Феликсович не смог получить, так как для этого надо было предоставить в Варшаву некоторое количество напечатанных книг, но когда он попытался купить их, то выяснилось, что все экземпляры вышедшей небольшим тиражом книги раскуплены.
В 1916 году за опубликованную монографию, которая была расценена как диссертация, Валентин Феликсович получил степень доктора медицины. Профессор Мартынов так охарактеризовал эту работу: «Мы привыкли к тому, что докторские диссертации пишутся обычно на заданную тему с целью получения высших назначений по службе и научная ценность их невелика. Но когда я читал Вашу книгу, то получил впечатление пения птицы, которая не может не петь, и высоко оценил ее».
Однако при больших успехах в научной и врачебной деятельности, духовная жизнь его в это время оказалась запущенной. «У земского врача, каким я был тринадцать лет, – вспоминал он впоследствии, – воскресные и праздничные дни самые занятые и обремененные огромной работой. Поэтому я не имел возможности... бывать на богослужениях в церкви и многие годы не говел. Однако в последние годы моей жизни в Переславле я с большим трудом нашел возможность бывать в соборе, где у меня было свое постоянное место, и это возбудило большую радость среди верующих Переславля».
В Переславле им было положено начало работы над книгой «Очерки гнойной хирургии», принесшей ему впоследствии заслуженную славу. «С самого начала своей хирургической деятельности, – вспоминал он, – я ясно понял, как огромно значение гнойной хирургии и как мало знаний о ней вынес я из университета. Я поставил своей задачей глубокое самостоятельное изучение диагностики и терапии гнойных заболеваний. В конце моего пребывания в Переславле пришло мне на мысль изложить свой опыт в особой книге... Я составил план этой книги и написал предисловие к ней. И тогда, к моему удивлению, у меня появилась крайне странная неотвязная мысль: “Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа”».
В марте 1917 года семья Валентина Феликсовича переехала в Ташкент, куда его пригласили быть главным врачом городской больницы. С конца 1917 года в городе начались беспорядки и затем, как и по всей стране, гражданская война; часто бывали перестрелки, много было раненых, которых привозили в больницу, всегда в этих случаях вызывая Войно‐Ясенецкого, как опытного хирурга. При вызове он сразу же отправлялся в больницу, никогда не выказывая никакого неудовольствия, даже тогда, когда, с точки зрения опытного врача, его вызывали по пустякам. Никто в это время не видел его гневным, или вспылившим, или раздраженным. Он со всеми говорил ровным, спокойным, негромким, чуть глуховатым голосом. Если ему что‐либо не нравилось, то свои замечания он выражал таким же ровным, спокойным тоном.
В 1919 году военный комиссар большевистского правительства Туркестанской республики поднял восстание против большевиков, и начались бои между военными частями, при которых в городских условиях была применена артиллерия, – снаряды летали по городу, разрушая здания и раня людей. Когда восстание было подавлено, начались массовые аресты, причем арестовывались зачастую случайные люди. Для многих это оказалось удобным моментом для сведения счетов. Суд вершился в железнодорожных мастерских, где в одной большой комнате было собрано множество арестованных, которых по одному выводили в другую комнату, где заседала тройка; суд занимал не более трех минут и чаще всего заканчивался приговором к расстрелу; затем приговоренного выводили в другую дверь и тут же, в соседнем помещении, расстреливали. Войно‐Ясенецкого и его ученика‐хирурга, работавшего под его началом в той же больнице, арестовал патруль из двух рабочих и двух матросов, которых привел рано утром в больницу работник больничного морга Андрей, пьяница и вор, которого Валентин Феликсович за неисправимость собирался уволить.
Когда арестованных вели по железнодорожному мосту, стоявшие на рельсах рабочие советовали Андрею не возиться с ними, а расстрелять их тут же, под мостом. Но их все же привели в огромную комнату железнодорожных мастерских, где были собраны солдаты восставшего полка и горожане. С утра до позднего вечера два врача просидели возле двери, за которой решалась участь арестованных. Молодой хирург, волнуясь, время от времени спрашивал Валентина Феликсовича:
– Почему нас не вызывают? Что это может означать?
На что спокойный и невозмутимый Валентин Феликсович неспешно ему отвечал:
– Вызовут, когда придет время. Сидите спокойно.
Поздно вечером в зал вошел некий партийный начальник, который знал знаменитого хирурга в лицо, и, осведомившись, как он здесь оказался, зашел в комнату судей и через десять минут вынес им пропуска на выход и предоставил вооруженную охрану, чтобы их не застрелил случайно на улице ночью патруль.
Известие об аресте мужа вызвало у Анны Васильевны, тяжело болевшей в то время туберкулезом легких, столь сильное потрясение, что с этого момента состояние ее здоровья резко ухудшилось, и в октябре 1919 года она скоропостижно скончалась. Валентин Феликсович остался с четырьмя детьми, из которых старшему было двенадцать лет, а младшему шесть.
Две ночи в полном одиночестве он читал над гробом почившей Псалтирь. «Часа в три второй ночи, – вспоминал владыка впоследствии, – я читал сто двенадцатый псалом, начало которого поется при встрече архиерея в храме: “От восток солнца до запад”, и последние слова псалма поразили и потрясли меня, ибо я с совершенной несомненностью воспринял их как слова Самого Бога, обращенные ко мне: “Неплодную вселяет в дом матерью, радующеюся о детях”».
Без всякого сомнения он воспринял эти слова, как указание на его операционную сестру Софью Сергеевну Велецкую, о которой он только и знал, что она недавно похоронила мужа и была бездетна. Едва дождавшись утра, он отправился к ней и, рассказав, какие мысли пришли к нему над гробом жены, спросил ее, верует ли она в Бога и хочет ли исполнить повеление Бога и заменить его детям умершую мать. Софья Сергеевна с радостью согласилась.
Валентин Феликсович был активным прихожанином и не скрывал своей веры от коллег в больнице. Прежде чем приступить к операции, он всегда осенял себя крестным знамением и некоторое время сосредоточенно молился перед иконой Божией Матери, которая висела в операционной. Неверующие врачи в конце концов перестали обращать на нее внимание, а верующие считали это делом естественным. Но однажды, в начале 1920 года, одна из ревизионных комиссий потребовала убрать икону. В ответ на это главный врач ушел из больницы, заявив, что вернется только тогда, когда вернут на место икону. Ему, однако, было в этом отказано, и он решил не возвращаться. В это время крупный партийный начальник привез в больницу свою больную жену, которая заявила, что будет оперироваться только у Войно‐Ясенецкого. Хирурга вызвали в приемную, но он подтвердил, что очень сожалеет, но, согласно своим религиозным убеждениям, вернется в операционную только в том случае, если туда будет возвращена икона. Доставивший жену в больницу партиец стал уверять врача, что икона будет возвращена, только бы он приступил к операции. Валентин Феликсович отправился делать операцию, а икона на следующий день была возвращена на прежнее место.
В первые годы советской власти в Ташкенте было организовано православное Братство; на одно из его заседаний пришел Валентин Феликсович и выступил там с пространной речью; она произвела на слушателей огромное впечатление, которое переросло в восторг, когда они узнали, что выступавший является главным врачом городской больницы.
Во многих храмах в те годы стали устраиваться беседы на темы Священного Писания, в которых принимал участие и Валентин Феликсович. Его выступления имели неизменный успех. В конце 1920 года он присутствовал на епархиальном собрании, где сделал доклад о положении дел в Ташкентской епархии. После собрания к нему подошел епископ Ташкентский и Туркестанский Иннокентий (Пустынский) и, взяв его за руку, отвел в сторону и сказал, что его выступление произвело на него большое впечатление, и затем заключил: «Доктор, вам надо быть священником!»
Слова епископа Валентин Феликсович принял как Божий призыв и, ни минуты не размышляя, ответил: «Хорошо, Владыко! Буду священником, если это угодно Богу!» Он рассказал епископу Иннокентию о повелении Господнем найти для детей мать и что в его доме живет операционная сестра. Владыка на это сказал, что нисколько не сомневается в его верности седьмой заповеди.
В феврале 1921 года Валентин Феликсович был рукоположен во диакона. Это событие произвело огромное впечатление на жителей Ташкента, так как к этому времени он был уже известным врачом. Для окружающих, и особенно работающих вместе с ним неверующих врачей, его поступок был мало понятен, но для него все это имело глубочайший смысл. В то время, когда весь мир, казалось, восстал на Христа и, точно сойдя с ума, предался бесчинствам – повсюду устраивались кощунственные карнавалы с нарочитыми издевательствами над Спасителем нашим Господом Иисусом Христом, – он не мог остаться в стороне, он ощущал своим нравственным долгом защитить ругаемого Спасителя и выйти с проповедью о безмерном Его милосердии к обезумевшему роду человеческому. Если бы не было прервано правильное течение церковной жизни и диавол не воздвиг бы гонений на Русскую Церковь, гениальный врач вряд ли стал бы священником, но в данных обстоятельствах Господь Сам призывал его к Себе священником и архиереем. В это время именно такие архиереи и нужны были Господу. На праздник Сретения Господня в 1921 году диакон Валентин был рукоположен во священника.
Принятие им священного сана было воспринято большинством сотрудников больницы враждебно, некоторые из молодых студентов принялись даже обличать священника‐врача. Одна из его учениц, увидев отца Валентина в больнице в рясе, заявила ему: «Я неверующая, и, чтобы вы там ни выдумывали, я буду называть вас только по имени‐отчеству. Никакого отца Валентина для меня не существует».
Отец Валентин не обращал внимания на подобного рода враждебные высказывания и повсюду по городу ходил в рясе, с крестом, чем немало нервировал ташкентское партийное начальство, так как к этому времени он был уже известным и признанным врачом‐хирургом и председателем Союза врачей. С крестом на груди он читал лекции в Ташкентском университете, где был в то время профессором. Власти сначала терпели это, не зная, как подступиться к известному ученому, затем пытались его уговорить бросить церковное, но на все их уговоры он не обращал никакого внимания – перед каждой операцией по‐прежнему молился и благословлял больных. При всей ненависти безбожников к христианству против действий врача‐священника трудно было что‐либо возразить, потому что его отношение к больным было с нравственной точки зрения безупречным, являя собой образец труднодостижимого идеала для любого врача, а вот именно этим христианским врачом и достигнутого.
Епископ Иннокентий, сам почти не проповедовавший, назначил отца Валентина четвертым священником собора и поручил ему все дело проповеди, сказав ему словами апостола Павла: «Ваше дело не крестити, а благовестити» [1 Кор. 1, 17]. Эти слова оказались пророческими: за все время своего служения он не совершил почти никаких треб и крестил всего несколько раз, но зато он помногу проповедовал за богослужением и после воскресной вечерни проводил в соборе беседы, посвященные в основном тогда критике материализма.
В течение первых двух лет священства отцу Валентину пришлось вести публичные диспуты со слушателями и, в частности, с отрекшимся от Бога бывшим миссионером протоиереем Ломакиным, который был поставлен большевиками во главе антирелигиозной пропаганды в Средней Азии.
Владыка вспоминал об этом впоследствии: «Как правило, эти диспуты кончались посрамлением отступника от веры... Несчастный хулитель Бога стал бояться меня и просил устроителей диспутов избавить его от “этого философа”... На несчастном хулителе Духа Святого страшно сбылось слово псалмопевца Давида: “смерть грешников люта”. Он заболел раком прямой кишки, и при операции оказалось, что опухоль уже проросла в мочевой пузырь. В тазу скоро образовалась глубокая, крайне зловонная полость, наполненная гноем, калом и мочой и кишевшая множеством червей. Враг Божий пришел в крайнее озлобление от своих страданий, и даже партийные медицинские сестры, назначенные для ухода за ним, не могли выносить его злобы и проклятий и отказывались от ухода за ним».
В 1921 году отцу Валентину пришлось публично выступать в суде в качестве свидетеля, защищая врачей‐коллег, которых чекист Петерс пытался обвинить во вредительстве. Выйдя на трибуну, отец Валентин бесстрашно напал на Петерса как на «круглого невежду, который берется судить о вещах, в которых ничего не понимает», как на «бессовестного демагога, требующего высшей меры для совершенно честных и добросовестных людей».
После того как отец Валентин изъяснил существо дела с точки зрения медицинской, обескураженный и разгневанный Петерс спросил его:
– Откуда вы все это знаете?
– Да будет известно гражданину общественному обвинителю, – с достоинством ответил отец Валентин, – что я окончил не двухлетнюю советскую фельдшерскую школу, а медицинский факультет университета святого Владимира в Киеве.
В зале зааплодировали.
– Скажите, поп и профессор Ясенецкий‐Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете? – продолжал спрашивать Петерс.
– Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель?
После такого ответа священнику уже аплодировали не только врачи, но и рабочие, и Петерс задал следующий вопрос, который, по его мнению, должен был склонить симпатии всех присутствующих на его сторону:
– Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий‐Войно? Разве вы Его видели, своего Бога?
– Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил.
В зале раздался смех, в котором потонул звук колокольчика, которым тряс негодующий председатель суда. Благодаря смелому выступлению отца Валентина приговор был отменен и врачи через некоторое время освобождены.
Усиленная научная работа в клинике на трупах, покрытых вшами, привела к тому, что отец Валентин сам заболел возвратным тифом в весьма тяжелой форме, но болезнь, по милости Божией, ограничилась всего двумя приступами, хотя впоследствии давала о себе знать еще долго.
Весной 1923 года, когда по всей России бушевал обновленческий раскол, епископ Иннокентий созвал съезд духовенства Ташкентской епархии, который должен был избрать двух кандидатов в епископы. Съезд избрал архимандрита Виссариона (Зорнина) и священника Валентина Войно‐Ясенецкого.
После того как известия о действиях обновленцев против Патриарха Тихона достигли Ташкента, архиепископ Иннокентий выступил с проповедью, в которой сказал, что в Церкви поднят бунт против Патриарха, но необходимо сохранять верность Православной Церкви и Патриарху, ни в коем случае не входя в сношения с обновленческим епископом, приезд которого в Ташкент ожидается со дня на день.
Вскоре неожиданно для всех два видных городских протоиерея, на которых надеялись как на столпов православия, примкнули к обновленцам, к ним присоединились другие, и вдруг оказалось, что православного духовенства остается совсем не так много. Архиепископ Иннокентий поспешил приступить к совершению хиротонии архимандрита Виссариона, пригласив для этого находившегося в Ташкенте епископа. Из наречения не делалось тайны, и на следующий день нареченный во епископа архимандрит Виссарион был арестован и выслан из Ташкента. Архиепископ Иннокентий был чрезвычайно напуган таким поворотом событий и ночью тайно покинул Ташкент, и, таким образом, епархия оказалась лишенной церковного руководства и почти плененной обновленцами.
Протоиерей Михаил Андреев и священник Валентин Войно‐Ясенецкий, взяв на себя управление епархиальными делами, собрали епархиальный съезд из оставшихся верными православию священников и членов церковных советов.
Вскоре в Ташкент в ссылку прибыл епископ Уфимский Андрей (Ухтомский), который одобрил пожелание ташкентского духовенства возвести отца Валентина в епископы и тайно постриг его. Сначала он предполагал дать ему имя в честь великомученика Пантелеимона, но затем, побывав на литургии, которую служил отец Валентин, и немного больше узнав о нем, постриг его в монашество в память апостола и евангелиста, врача и иконописца Луки.
В городе, однако, не было второго архиерея, чтобы совершить хиротонию, и епископ Андрей направил иеромонаха Луку в город Пенджикент за девяносто верст от Самарканда, где в это время находились в ссылке епископы Болховский Даниил (Троицкий) и Суздальский Василий (Зуммер), передав для них письмо с просьбой совершить архиерейскую хиротонию.
Учитывая тяжелые обстоятельства времени, иеромонах Лука отбыл из Ташкента с соблюдением множества предосторожностей, чтобы свой отъезд сохранить в тайне; сопровождали его иеромонах, диакон и старший сын. Путники прибыли в Пенджикент вечером следующего дня. Епископы встретили прибывших с любовью и, прочитав письмо епископа Андрея, в этот же день немедленно приступили к служению вечерни и утрени в маленьком храме во имя святителя Николая, архиепископа Мирликийского. Служили без звона, при закрытых дверях. На следующий день, 31 мая 1923 года, иеромонах Лука был рукоположен во епископа. Впоследствии, по сообщении сведений об этой хиротонии Патриарху Тихону, он признал ее законной.
Первую архиерейскую службу владыка совершил в воскресенье 3 июня в день святых равноапостольных Константина и Елены. Кафедральный собор был уже занят обновленцами, но когда они узнали, что будет служить епископ Лука, то в страхе разбежались, и епископ служил литургию с протоиереем Михаилом Андреевым, принципиальным противником обновленцев.
Через неделю епископ Лука отслужил воскресную всенощную и, придя домой, принялся читать правило ко святому причащению. В одиннадцать часов вечера раздался стук в дверь и вошедшие сотрудники ОГПУ объявили ему, что он арестован; дав проститься с домашними, его увезли в тюрьму.
Епископ Лука предполагал возможность своего ареста, знал, что Ташкентскую кафедру послан захватить обновленческий епископ Николай (Коблов), и потому заранее составил обращение к туркестанской пастве, которое сразу же после его ареста распространилось среди верующих и привело в ярость работников ОГПУ.
«К твердому и неуклонному исполнению завещаю вам, – писал в обращении владыка, – неколебимо стоять на том пути, на который я наставил вас.
Подчиняться силе, если будут отбирать от вас храмы и отдавать их в распоряжение дикого вепря, попущением Божиим вознесшегося на горнем месте соборного храма нашего. Внешностью богослужения не соблазняться и поругание богослужения, творимое вепрем, не считать богослужением. Идти в храмы, где служат достойные иереи, вепрю не подчинившиеся. Если и всеми храмами завладеет вепрь, считать себя отлученными Богом от храмов и ввергнутыми в голод слышания слова Божия [Ам. 8, 11]. С вепрем и его прислужниками никакого общения не иметь и не унижаться до препирательства с ними. Против власти, поставленной Богом по грехам нашим, никак нимало не восставать и во всем ей смиренно повиноваться.
Властью преемства апостольского, данного мне Господом нашим Иисусом Христом, повелеваю всем чадам Туркестанской Церкви строго и неуклонно блюсти мое завещание. Отступающим от него и входящим с вепрем в молитвенное общение угрожаю гневом и осуждением Божиим».
Незадолго перед арестом епископ отправил две статьи в немецкий хирургический журнал, издававшийся в Лейпциге, которые вышли в том же году, причем редактор журнала принял его сан за фамилию, подписав автора статей, как «Лука Епископ», а другие – в советские журналы «Вестник хирургии и пограничных областей» и «Новый хирургический архив»; они были опубликованы только через год, когда владыка был уже в заключении, и там стояло его имя «Епископ Лука».
Посадив епископа в подвал ОГПУ, следователи стали допрашивать его, спрашивая иной раз о знакомстве с такими людьми, о которых он до сего времени даже не слышал. Наконец его вызвали к высокопоставленному сотруднику ОГПУ, который стал расспрашивать владыку о его политических взглядах и отношении к советской власти. Услышав, что епископ всегда придерживался демократических взглядов, он спросил его:
– Так кто же вы – друг наш или враг наш?
– И друг ваш и враг ваш, – ответил епископ. – Если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. Но вы воздвигли гонение на христианство, и потому, конечно, я не друг ваш.
После допроса епископа оставили в покое и из подвала перевели в более просторное помещение и вскоре объявили, что он высылается под надзор Центрального аппарата ОГПУ и в Москву может следовать вольным порядком, на сборы ему дается один день.
Всю ночь перед отъездом квартира епископа Луки была полна прихожанами, пришедшими проститься со своим архипастырем, и наутро, когда он сел в поезд, состав еще долго не мог стронуться с места, так как люди легли перед паровозом на рельсы, предполагая таким образом воспрепятствовать высылке владыки из Ташкента, но это оказалось невозможным.
В Москве епископ пробыл неделю и два раза за это время встретился с Патриархом Тихоном, который 23 ноября 1923 года выдал ему удостоверение: «Его Преосвященство, как Епископ православный, состоит со мной в каноническом общении».
Сотрудники ОГПУ, наблюдая за жизнью епископа Луки в Москве, пришли к выводу о необходимости заключения его под стражу, как человека бесполезного для использования в качестве секретного сотрудника, как беззаветно преданного Церкви, и владыка был заключен в Бутырскую тюрьму; оттуда его отправили в Таганскую и поместили в камеру с политическими заключенными. Однажды все они получили по полушубку от Красного Креста. Проходя по коридору тюрьмы, епископ увидел сквозь решетку одиночную камеру, пол которой был залит водой, и в ней сидел полуголый шпаненок. Владыка передал ему свой полушубок, что произвело большое впечатление на предводителя шпаны, старого вора, который стал после этого любезно его приветствовать, называя «батюшкой».
В начале зимы 1923 года епископ Лука с этапом заключенных был отправлен в ссылку в Сибирь, вместе с ним был отправлен ташкентский священник протоиерей Михаил Андреев. В Новосибирске епископа и двух священников посадили в камеру вместе с бандитом, убившим восемь человек, и блудницей, уходившей на ночь к надзирателям. Бандит знал, что епископ поделился полушубком с вором, и стал уверять его, что никто из преступной братии не тронет его пальцем. Однако в той же новосибирской тюрьме у епископа во время мытья в бане украли деньги, а затем и чемодан с вещами. В этой же тюрьме епископа посадили в общую камеру с уголовниками, которые встретили его настолько враждебно, что владыка стал стучать в дверь под предлогом необходимости выйти в туалет, а когда вышел, то заявил надзирателю, что ни при каких условиях он в эту камеру не вернется.
В Красноярске владыку и его спутников – священников посадили в подвал ОГПУ, который был грязен и загажен, и его пришлось, прежде чем расположиться в нем, чистить, при этом им не дали даже лопат. В соседней большой камере были заключены приговоренные к расстрелу казаки повстанческого отряда. Долго еще потом в ушах епископа звучали ружейные залпы расстрела казаков.
В ссылке, в Енисейске, владыку и его спутников определили в хорошую квартиру, и они по воскресным и праздничным дням стали совершать дома всенощные и литургии, поскольку в городских храмах служить не могли, так как все городское духовенство, за исключением одного диакона, уклонилось в обновленчество; этого диакона епископ Лука вскоре рукоположил во священника.
В первые дни пребывания в Енисейске епископ сделал трем слепым мальчикам‐братьям операции, и они прозрели. Врач, заведовавший енисейской больницей, предложил епископу вести прием больных, которых оказалось столько, что запись на прием, начатая в начале марта, быстро достигла конца мая.
Незадолго до приезда епископа в Енисейск здесь был закрыт женский монастырь, и две послушницы этого монастыря рассказали владыке, какими кощунствами и надругательствами сопровождалось закрытие храма, как например, некая комсомолка, бывшая в числе разорявших, подняв подол юбки, уселась в алтаре на престол. Этих послушниц владыка постриг в монашество и дал им имена в честь своих небесных покровителей, назвав одну Лукией (Верхотурову), а другую Валентиной (Черкашину). Впоследствии они сопровождали епископа в ссылке и много ему помогли.
30 мая 1924 года православные общины Ташкента направили заявление в Президиум ВЦИКа с просьбой о возвращении епископа Луки из ссылки; устно им ответили, что их просьба будет иметь благожелательный исход; докладную записку с сообщением об этом они направили Патриарху Тихону, который, ознакомившись с этим известием 7 июня 1924 года, написал: «Слава Богу!»
Безбожные власти, однако, по своему обыкновению обманули просителей и отправили епископа еще дальше в глушь, в деревушку в восемь домов под названием Хая, в ста двадцати верстах от небольшого районного городка Богучаны. Здесь епископ жил и служил в доме, где за ночь замерзала вода; отсюда он писал родным: «Обо мне не беспокойтесь. Господь отлично устроил меня в Хае. Я радостен, глубоко спокоен, никаких нужд не испытываю – монахини с большой любовью заботятся обо мне».
Вскоре власти распорядились отправить владыку в Туруханск. В Туруханске, когда епископ сошел с баржи, толпа народа, ожидавшая его, вдруг опустилась на колени, прося благословения. Владыку разместили в квартире врача больницы и предложили вести врачебную практику; здесь ему пришлось совершать вместе с двумя помощниками‐фельдшерами довольно сложные операции.
В Туруханске находился закрытый безбожниками мужской монастырь, и в его храме, обращенном в приходской, старик‐священник Мартин Римша совершал все положенные по уставу богослужения, но он подчинялся Красноярскому обновленческому архиерею, и здесь владыка молиться не мог; он стал увещевать священника, чтобы тот оставил раскол. Заблуждавшийся пастырь принес покаяние перед народом, и епископ Лука стал молиться на его службах, на каждой проповедуя.
Впоследствии, когда священника арестовали и осудили за отказ присутствовать при кощунственном вскрытии мощей святого мученика Василия Мангазейского и безбожница‐дочь уже считала, что отец умер, и забыла о нем, он неожиданно для всех вернулся домой после двенадцати лет ссылок и лагерей и, благодаря Бога за помощь, которую ему в течение этих лет оказывал святой архиерей, показал дочери бережно хранимые им почтовые квитанции тех денежных переводов, которые ему посылал епископ.
Благодарные владыке за исцеления крестьяне вскоре стали привозить его в церковь на устланных ковром санях и, приходя в больницу, всегда брали у него благословение. Председатель Туруханского краевого совета, бывший красный партизан, герой гражданской войны и ярый безбожник Бабкин потребовал от епископа Луки, чтобы тот перестал проповедовать, ездить в церковь в покрытых ковром санях и давать благословение больным. Епископ ему предложил, чтобы тот сам повесил на дверях больницы объявление, что больным просить благословение и подавать сани, покрытые ковром, запрещается.
После этого епископа Луку вызвали в ОГПУ, перед входом в которое уже стояли запряженные парой лошадей и без всяких ковров милицейские сани, и милиционер‐конвоир велел ему собираться, дав на сборы всего полчаса. Когда епископ спросил уполномоченного ОГПУ, куда его высылают, последовал раздраженный ответ: «На Ледовитый океан».
Милиционеру, который сопровождал владыку, была не по сердцу роль сурового стражника, и он как‐то сказал епископу: «Я чувствую себя в положении Малюты Скуратова, везущего митрополита Филиппа в Отрочь монастырь».
«Путь по замерзшему Енисею в сильные морозы был очень тяжел для меня, – вспоминал впоследствии владыка. – Однако именно в это трудное время я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом со мной Сам Господь Бог Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня».
Дети епископа, узнав из его телеграммы, что он переведен на новое место, обратились с запросом к туруханским властям, но не получив от них ответа, в марте 1925 года послали ходатайство председателю ВЦИКа Калинину.
«Судьба нашего отца, – писали они, – окутана какой‐то, повидимому, преднамеренной тайной, и он, окончательно изолированный, поставлен сейчас в исключительное по своей беспомощности и беззащитности положение. Ему, например, как видно из прилагаемого удостоверения директора ушной клиники... может потребоваться немедленная операция в специальной ушной больнице. Но, не говоря уже об этом, не говоря и о том, что полярный холод губителен для его больных легких, нам доподлинно известно, что отец не имеет ни теплой одежды, ни средств на приобретение и на прожиток. И никто извне не может прийти ему на помощь.
Такая чрезмерная строгость к нашему отцу, отражающаяся и на нашем собственном положении, бесспорно дает нам, детям его, право выступать на его защиту...
Мы считаем, что те нравственные и физические страдания, которым обрекло нашего отца Сибирское ОГПУ, не находятся ни в каком соответствии ни с его нравственною личностью и его политическими воззрениями, ни с его выдающимися и общепризнанными общественными заслугами.
Отец наш, до ссылки его за религиозные убеждения, состоял в Ташкентском университете профессором оперативной хирургии и топографической анатомии и за свои труды в этой области приобрел европейскую известность…
Касаясь... религиозных убеждений отца, мы... не можем не отметить черты, которая, если бы она была правильна понята представителями ОГПУ, должна была бы парализовать всякие предубеждения о его неблагонадежности, – это его толкование о подчинении властям, исключающее даже тайное недоброжелательство по отношению ко всякой власти, как несогласное с истинным христианством.
Остается, таким образом, только одна его вина – это непоколебимая вера его в незыблемость закона об отделении Церкви от государства... и о свободе вероисповедания.
Но мы думаем, что доколе не упразднены эти законы, следование им ни при каких условиях не может составлять серьезного преступления, и потому мы просим Вас, товарищ Калинин, войти в положение нашего отца и наше, обратить внимание также и на болезненное состояние его, удостоверенное прилагаемыми докторскими свидетельствами, и на наше необеспеченное положение...»
6 мая 1925 года ОГПУ прислало свои рекомендации во ВЦИК: епископ Лука «является ярым черносотенцем, организовал контрреволюционную группировку, распространял контрреволюционные воззвания и вел антисоветскую деятельность... Будучи в высылке... не прекращал своей антисоветской деятельности, почему и был переведен в отдаленную местность Сибири (Туруханский край). Учитывая изложенное, удовлетворение ходатайства о помиловании нежелательно».
Место, куда был выслан епископ Лука, был станок Плахино, за двести тридцать километров от Полярного круга; он состоял из трех изб и еще двух больших, как сначала показалось епископу, груд навоза и соломы, которые оказались жилищами двух небольших семей. Когда епископ с милиционером вошли в главную избу, туда же вошли и все немногочисленные жители станка, они низко поклонились владыке, и председатель станка степенно произнес: «Ваше Преосвященство! Не извольте ни о чем беспокоиться, мы все для вас устроим».
Епископу в Плахине отвели довольно просторную половину избы с двумя окнами, в которых вместо вторых рам были снаружи вморожены льдины. На полу лежали кучи снега, одна из них, у порога, – никогда не таявшая. «В Плахине, – вспоминал владыка Лука, – часто бывают очень сильные морозы, и там не живут вороны и воробьи, потому что при таком холоде они могут замерзнуть на лету и камнем упасть на землю... Однажды мне пришлось испытать крайне тяжелый мороз, когда несколько дней подряд беспрестранно дул северный ветер, называемый тамошними жителями “сивер”. Это тихий, но не перестающий ни ночью ни днем, леденящий ветер, который едва переносят лошади и коровы... Мне, конечно, всегда приходилось выходить днем и ночью из избы по естественным надобностям на снег и мороз. Это было крайне трудно и в обычное время, но когда дул “сивер”, положение становилось отчаянным».
Через два месяца в Плахино прибыл нарочный, который привез письмо от уполномоченного ОГПУ, предлагавшего епископу вернуться в Туруханск. Оказалось, что в туруханской больнице умер крестьянин, которому срочно требовалась операция, а ее без епископа‐врача сделать не смогли. Возмущенные этой смертью крестьяне, вооружившись вилами, косами и топорами двинулись громить местное отделение ОГПУ и сельсовет, и испуганное начальство срочно послало за владыкой Лукой.
Кончался срок ссылки, владыка стал надеяться выехать из Туруханска: у него было уверение от Господа, что это произойдет. Он не знал, что начальство распорядилось задержать его в ссылке еще на год. И его все не вызывали для отправки. Владыка, стоя в алтаре храма, молился, скорбел и даже роптал на Господа, и однажды увидел, как Иисус Христос резко отвернул Свой пречистый лик от него. В отчаянии он вышел из алтаря на клирос и машинально открыл лежащий на аналое Апостол и стал читать первое, что попалось на глаза. Это было слово, казалось, прямо к нему обращенное, обличавшее его неразумие и ропот и подтверждавшее надежду обетования от Господа. С благодарным чувством он вернулся в алтарь и, глядя на тот же запрестольный образ Спасителя, видел, что Он смотрит на него благодатным и светлым взором.
20 августа из Туруханска ушел последний пароход... Епископ читал утреню, и последние слова 31‐го псалма поразили его, он их воспринял, как обращенный к нему голос Божий: «Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, воньже пойдеши, утвержу на тя очи Мои. Не будите яко конь и меск, имже несть разума: броздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к Тебе» [Пс. 31, 8–9].
И в его душу снизошел глубокий покой, который обычно переживает душа, когда все упование возложит на Господа. Еще до окончания срока ссылки Господь послал ему маленькую варикозную язву голени с ярким воспалением кожи вокруг нее, и враги креста Господня вынуждены были отпустить епископа в Красноярск.
Зимний путь проходил по замерзшему Енисею, и крестьяне соорудили для епископа крытый возок. Дорога из Туруханска шла мимо монастырской церкви, и епископа вышел провожать священник с крестом в руках в окружении большой толпы верующего народа. Священник поведал, как в храме, где были погашены свечи, загорелась сама собою перед отъездом владыки свеча.
Путь епископа Луки по Енисею стал архиерейским путем. Все церкви встречали его на пути колокольным звоном, он служил в них молебны и проповедовал. Через полтора месяца он прибыл в Красноярск и сразу же направился к епископу Красноярскому Амфилохию (Скворцову). Келейник владыки Амфилохия, монах Мелетий, из‐за бельма был слеп на один глаз, и необходимо было сделать операцию. Владыка попросил главного врача больницы разрешить сделать операцию в глазном отделении больницы. Тот согласился, и на следующий день епископ Лука и монах Мелетий отправились в больницу, причем на операцию собралась толпа врачей, чтобы посмотреть, как будет оперировать знаменитый хирург. Операция прошла благополучно и была быстро закончена, и владыка выразил сожаление, что операция слишком проста, но если бы у них был более сложный случай, он показал бы, как проводить такие операции. Такой больной оказался, его тут же приготовили к операции, и владыка, предварительно объяснив свой метод регионарной анестезии и как будет проводиться операция, шаг за шагом затем продемонстрировал то, о чем он только что рассказывал.
На следующий день епископа Луку пригласили в ОГПУ. Уполномоченный Красноярского ОГПУ попросил епископа рассказать о его пререканиях с уполномоченным Туруханского ОГПУ и председателем исполкома. Владыка подробно рассказал обо всем происшедшем, пояснив, как и в чем те были виновны. После того, как вопросы и ответы были записаны, в кабинет вошел помощник начальника Красноярского ОГПУ и, прочитав протокол допроса, отправил его в ящик стола, а затем, показав на видневшийся из окна кабинета собор, захваченный обновленцами, сказал:
– Вот этих мы презираем, а таких как вы – уважаем. Куда вы намерены ехать?
– Как, разве я могу ехать куда хочу? – с удивлением спросил владыка.
– Да, конечно.
– И даже в Ташкент?
– Конечно, и в Ташкент. Только прошу вас, уезжайте как можно скорее.
– Но ведь завтра великий праздник Рождества Христова, и я непременно должен быть в церкви.
С большим трудом тот согласился на то, чтобы епископ Лука пробыл еще один день в городе, и взял с него слово, что он отправится на вокзал сразу же после обедни.
В тот же день епископ навестил владыку Амфилохия, которому уже помогал вполне здоровый монах Мелетий. Рождественскую всенощную и литургию епископ Лука служил вместе с владыкой Амфилохием. После литургии, когда владыка уже направлялся к вокзалу, его повозку остановил молоденький милиционер, который вдруг бросился обнимать и целовать владыку, – это был тот самый стражник, который вез епископа из Туруханска в станок Плахино, счастливый теперь, что путешествие владыки окончилось благополучно.
В январе 1926 года епископ Лука вернулся в Ташкент. Кафедральный собор был разрушен, в храме во имя преподобного Сергия Радонежского несколько раз служил ссыльный епископ, который вскоре перешел в обновленчество; вернувшийся из ссылки протоиерей Михаил Андреев потребовал от епископа Луки, чтобы тот освятил храм после обновленческого архиерея. И хотя отец Михаил был в этом случае прав, епископ Лука отказался исполнить это требование, и это явилось началом тяжких между ними огорчений. Протоиерей Михаил, поставив свою правоту превыше всего, занял непримиримую позицию и стал делать ошибки одну за другой, встав в конце концов на неправый путь: он отделился от епископа и стал служить на дому с небольшой группой единомышленников. Епископ Лука запретил его в священнослужении, и отец Михаил стал писать на него жалобы заместителю Местоблюстителя митрополиту Сергию (Страгородскому), неоднократно ездил к митрополиту сам и в конце концов сумел восстановить его против епископа Луки настолько, что тот сместил епископа с Ташкентской кафедры и в течение короткого времени затем послал три указа – о назначении его в город Рыльск викарием Курской епархии, в город Елец викарием Орловской епархии и в город Ижевск епархиальным архиереем.
Епископ Лука поначалу хотел подчиниться распоряжению заместителя Местоблюстителя, но митрополит Новгородский Арсений (Стадницкий), живший в Ташкенте на положении ссыльного и бывший в большой дружбе с епископом и его детьми, дал ему не имеющий разумных оснований совет – никуда не ехать и подать прошение об увольнении на покой.
Епископ послушался его совета и подал прошение заместителю Местоблюстителя; в 1927 году он был уволен на покой. С этого времени владыка ходил молиться в храм преподобного Сергия, где молился вместе с митрополитом Арсением в алтаре.
Из Ташкентского университета епископ Лука был уволен как неблагонадежный, и он стал вести прием больных у себя на дому. Запись на каждый следующий месяц начиналась с пяти часов утра, но люди собирались под окнами его квартиры с ночи, и за два часа уже было записано более четырехсот человек, практически все, сколько мог владыка принять.
Владыка всю жизнь оставался внимательным к чужим бедам. Заметив однажды на ступеньках городской больницы девочку‐подростка с маленьким мальчиком, он стал расспрашивать их и выяснил, что их отец умер, а мать в больнице, и, по‐видимому, надолго. Епископ повел детей к себе домой, а затем нанял женщину, которая стала им помогать по хозяйству, пока не выздоровела их мать. Впоследствии эта девочка сначала помогала владыке при врачебных приемах, а затем, освоив основы медицины, стала хорошей медицинской сестрой. Епископ посылал ее искать по городу больных, нуждающихся в помощи и материальной поддержке. Когда такие больные находились, владыка навещал их, лечил и помогал деньгами. Епископ Лука учил своих помощников: «Главное в жизни – всегда делать добро; если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое».
Весной 1930 года стало известно, что безбожники замыслили разрушить храм преподобного Сергия. Разгул безбожия становился невыносимым, и, чтобы хоть как‐то ему противостать, владыка решил, отслужив последнюю литургию, в тот момент, когда безбожники войдут в храм, облить себя бензином и поджечь. Однако Богу угодно было остановить этот отчаянный замысел. Разрушение храма было отложено; отслужив литургию 6 мая 1930 года, владыка вдруг почувствовал, что его в этот день арестуют, и вечером этого дня он действительно был арестован, – иную угодно было Богу поднести ему чашу страданий.
Внешним поводом для обвинения епископа послужила записка, данная им жене покончившего самоубийством профессора Михайловского, в которой епископ свидетельствовал, что «профессор Михайловский покончил жизнь самоубийством в состоянии несомненной душевной болезни, которой он страдал более двух лет».
В 1924 году у Михайловского умер безумно им любимый сын. Он отказался переносить этот крест и, изрыгая богохульства, набросился с топором на иконы; не дав похоронить сына, он мумифицировал его тело и перед трупом умершего клал лакомства и фрукты, а когда другие его дети стали забирать их себе у покойника, он стал забрасывать приношения на крышу, а когда узнал, что дети и оттуда их забирают, стал свои приношения сжигать. Возненавидев жену, которую считал виновницей смерти сына, он развелся с ней и женился на молодой студентке. Время от времени его охватывали доводившие его до безумия болезненные приступы ревности; во время одного из таких приступов он поссорился с молодой женой и застрелился. В его смерти была обвинена жена, и епископу Луке было объявлено, что он привлечен к уголовной ответственности как соучастник, выдавший «заведомо ложную справку о душевно‐ненормальном состоянии здоровья убитого с целью притупить внимание судебно‐медицинской экспертизы». В советской печати о профессоре Михайловском стали писать, как о выдающемся ученом, занимавшемся опытами, противоречащими вере церковников, и за это они будто бы убили его.
Во время допросов епископу стало ясно, что следователи арестовали его и выдвинули против него нелепое обвинение, чтобы добиться от него снятия сана. Епископ Лука в ответ на это объявил голодовку протеста и был отправлен в тюремную больницу, откуда 16 июля 1930 года направил письмо полномочному представителю ОГПУ по Средней Азии.
Владыка писал: «Из первой ссылки, в которую я отправился здоровым человеком, я вернулся чуть живым инвалидом. Предстоящая мне вторая ссылка, при очень плохом состоянии моего сердца, равносильна для меня смертельному приговору.
Поэтому обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой о замене ссылки в Сибирь высылкой за границу. По своему характеру я совершенно чужд всякой политической активности и хотел бы только на склоне дней своих лечить больных. Чтобы Вы этому поверили, я прошу Вас отправить меня в Китайский Туркестан, откуда я ни в коем случае не могу никуда уехать... Конечно, если бы Вы имели доверие к моему честному слову архиерея и профессора, я просил бы лучшего, именно разрешения уехать в Персию, где я мог бы широко работать по хирургии... Думаю, что в обмен на меня, Вы могли бы получить осужденных в Персии советских граждан».
В ответ на это заявление владыки, на восьмой день голодовки, к нему явился злой и лживый руководитель ОГПУ и объявил:
– Я заместитель начальника Средне‐Азиатского ОГПУ. Мы очень считаемся с вашей двойной популярностью – крупного хирурга и епископа. Никак не можем допустить продолжения вашей голодовки. Даю вам честное слово политического деятеля, что вы будете освобождены, если прекратите голодовку.
Епископ молчал.
– Что же вы молчите? Вы не верите мне?
– Вы знаете, что я христианин, а закон Христов велит нам ни о ком не думать дурно. Хорошо, я поверю вам, – сказал епископ и прекратил голодовку.
Но его, конечно, не освободили, и через три дня он возобновил голодовку, продолжавшуюся еще две недели.
Во время голодовки епископ направил 23 июля 1930 года новое письмо в ОГПУ. Он писал: «Недавно я подал Вам заявление о высылке меня за границу. Я сделал это не потому, что мне хочется уехать за границу, а потому, что услышал от уполномоченного ОГПУ... о предстоящей мне ссылке в Сибирь и потерял надежду на возможность продолжать научную работу в СССР. Перспектива жить на старости лет в чужой стране и учиться чужим языкам, конечно, для меня в достаточной мере печальна, и у меня остается еще надежда, что Вы предоставите мне возможность продолжить свое 27‐летнее служение родному народу в родной стране. С самого начала своей земской работы я поставил себе задачей разработку вопросов гнойной хирургии, так как увидел, что это самая важная для крестьян, рабочих и солдат часть хирургии и в наше время наименее разрабатываемая наука и крайне плохо и недостаточно преподаваемая в университетах... Моей давней мечтой было создание специальной клиники гнойной хирургии, в которой я мог бы продолжить научное изучение ее и преподавать эту важнейшую дисциплину с подобающей ей полнотой. Такой специальной клиники нет еще нигде за границей, и хорошо было бы, если она возникла впервые в СССР...
Таковы мои подлинные намерения и желания. Если Вы не найдете возможным их удовлетворить, то мне не остается ничего другого, как повторить свое ходатайство о высылке в Персию, где я занялся бы, конечно, не бело‐эмигрантской деятельностью, а научно‐практической работой в области гнойной хирургии, так как это мое призвание...»
Сотрудников ОГПУ из этого письма заинтересовало только то, что область медицины, в которой ведет научные разработки профессор, касается солдат. Вскоре после подачи письма к нему в камеру пришел помощник начальника секретного отдела и заявил: «Мы сообщили о вашей голодовке в Москву, и оттуда пришло решение вашего дела, но мы не можем объявить его вам, пока вы не прекратите голодовку».
Еще теплился во владыке остаток веры в честное слово сотрудников карательных органов, и он согласился прекратить голодовку.
15 мая 1931 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило епископа Луку к ссылке в Северный край на три года, причем все остальные, привлекавшиеся по этому делу, не исключая жены профессора, обвинявшейся в убийстве, были освобождены.
Епископа Луку отправили этапом в город Котлас; каждый день во все время пути заключенным выдавался кусок хлеба и одна селедка на двоих, но селедку владыка не ел. По приезде в Котлас всех разместили в концлагере недалеко от города в местечке Макариха. Незадолго до приезда епископа в Макариху там вспыхнула эпидемия тифа, так что каждый день в яму на кладбище укладывали до семидесяти трупов.
Владыку сначала определили хирургом в котласскую больницу, но затем ему было приказано отправляться в ссылку в Архангельск. В Архангельске он долго не мог найти себе квартиру, был некоторое время в прямом смысле бездомным. Врачи больницы, куда он был определен работать хирургом, встретили его недружелюбно, неприветливо встретил его и Архангельский архиерей, – и этим Господь как бы исподволь начал указывать на ошибочность избранного владыкой пути.
По врачебной надобности, касающейся на этот раз его собственного здоровья, он написал прошение властям, заявив, что нуждается в лечении и просит разрешить ему поездку в Москву, но его отправили в Петроград, где ему была сделана операция, выяснившая, что беспокоившая его подозрительная опухоль оказалась доброкачественной.
Из больницы владыка отправился к митрополиту Серафиму (Чичагову) в Новодевичий монастырь. Это было в субботу, незадолго до всенощной. Епископ Лука стоял в алтаре в самом обычном расположении духа, не предвещавшем ничего необыкновенного. Но вдруг перед чтением Евангелия, им овладело необыкновенное волнение, ежеминутно нараставшее и достигшее своего предела, когда он услышал слова Господа Иисуса Христа, обращенные к апостолу Петру: «Симоне Ионин, любиши ли Мя паче сих?.. Паси овцы Моя...» [Ин. 21, 15–16].
Слова Христовы точно пронзили его. Владыка задрожал от волнения всем телом, он всем своим существом воспринял их как обращенные непосредственно к нему, епископу Луке, именно его призывающие пасти стадо Христово. Он с трудом дождался конца богослужения и пошел к митрополиту Серафиму рассказать о том нравственном потрясении, которое он испытал во время всенощной. Но тот не вполне понял его и не смог проникнуть в смысл происшедшего и лишь заметил, что и с ним бывало подобное, и отнес это к рядовому религиозному переживанию.
Еще в течение двух‐трех месяцев владыка остро вспоминал пережитое: точно как к Петру во время допроса, Господь поворачивал лик, напоминая ему о предательстве; всякий раз слезы градом лились из его глаз, но затем повеление Божие, как не принятое к исполнению, начало из памяти стираться и забываться.
По возвращении в Архангельск епископ Лука был вызван в Москву, где в течение трех недель особоуполномоченный ОГПУ каждый день подолгу беседовал с ним под предлогом того, что ему поручено изучить ташкентское дело, так как начальство в Москве уверено в невиновности епископа по этому делу и в несостоятельности предъявленного ему обвинения. В действительности же лукавый совратитель человеческих душ исподволь изучал святителя, беспрестанно ему льстил и превозносил до небес как хирурга, обещал предоставить ему хирургическую кафедру в Москве, как бы невзначай подводя к тому, что для этого надо отказаться от священнослужения.
Медовые речи диавольского искусителя, сладким ручейком вливаясь в сердце святителя, отравляли его своим ядом; пристрастие к хирургии под влиянием льстивых речей все более укреплялось в сердце, занятие хирургией стало казаться делом самым нужным и самым существенным, все менее хотелось от него отрываться, словно какой духовный сон начинал сковывать и оплетать смертною паутиною душу, – и он в конце концов написал властям заявление: «Я не у дел как архиерей и состою на покое. При нынешних условиях не считаю возможным продолжать служение, и потому, если мой священный сан этому не препятствует, я хотел бы получить возможность работать по хирургии. Однако сана епископа я никогда не сниму».
Копию этого заявления он отправил заместителю Местоблюстителя митрополиту Сергию (Страгородскому). Однако, епископа после этого заявления не только не освободили, как он надеялся, но вернули в Архангельск, увеличив срок еще на полгода, предполагая усилением репрессий все же добиться от него снятия сана. Не зная, какой предпринять шаг, когда ссылка закончится, епископ Лука написал митрополиту Арсению в Ташкент, советуясь с ним, но из его ответа понял, что давший уже один раз неправый совет в принципиальном вопросе не слишком хочет, чтобы епископ возвращался в Ташкент. Епископ Лука написал схиархиепископу Антонию (Абашидзе), жившему в то время в затворе в Киеве: он поведал ему о своих сомнениях в правильности решения заняться исключительно хирургией, – но и владыка Антоний, убаюкивая его совесть, написал, что не видит в этом поступке ничего неправого.
В конце 1933 года епископ Лука был освобожден и вернулся в Москву. На пути в Москву Господь, отвращая его от дальнейших ложных шагов, попустил ему попасть в крушение поезда, но это, хотя и напугало его, но не образумило, и он не задумался глубже о правильности затеваемых им предприятий.
В Москве он первым делом явился в канцелярию митрополита Сергия, и секретарь митрополита спросил епископа, не желает ли тот занять одну из свободных кафедр. Возвращение в Ташкент было закрыто ответом митрополита Арсения, и, «оставленный Богом и лишенный разума, – как свидетельствовал впоследствии об этом он сам, – я углубил свой тяжкий грех... страшным ответом: “Нет”».
От митрополита Сергия епископ Лука направился в Наркомат здравоохранения, чтобы ходатайствовать о предоставлении ему возможности заниматься в специальном исследовательском институте разработкой вопросов, касающихся гнойной хирургии. Но по милости Божией получил в этом отказ.
Впереди не осталось никаких перспектив и буквально некуда было деться. На обеде у митрополита Сергия один из архиереев посоветовал ему поехать в Феодосию. В этом совете не было решительно никакого смысла, но, сбившись с пути, владыка утратил способность к рассуждению и, последовав бессмысленному совету, отправился в Феодосию.
«Там, – вспоминал он впоследствии, – я чувствовал себя сбившимся с пути и оставленным Богом, питался в грязной харчевне, ночевал в доме крестьянина и, наконец, принял новое бестолковое решение – вернуться в Архангельск... и, немного опомнившись, уехал в Ташкент...
Я опустился до такой степени, что надел гражданскую одежду и в Министерстве здравоохранения получил должность консультанта при андижанской больнице.
Там я тоже чувствовал, что благодать Божия оставила меня. Мои операции бывали неудачны. Я выступал в неподходящей для епископа роли лектора о злокачественных образованиях и скоро был тяжело наказан Богом. Я заболел тропической лихорадкой... которая осложнилась отслойкой сетчатки левого глаза.
Уехав в Ташкент, я получил заведование маленьким отделением по гнойной хирургии на двадцать пять коек при городской клинической больнице. Позже это отделение было расширено до пятидесяти кроватей.
Скоро я узнал об операции швейцарского окулиста... Эта операция получила скоро большое распространение во многих странах и в Москве... Я оставил работу по гнойной хирургии и поехал в Москву... Я лежал с завязанными глазами после операции, и поздно вечером меня опять внезапно охватило страстное желание продолжать работу по гнойной хирургии. Я обдумывал, как снова написать наркому здравоохранения, и с этими мыслями заснул. Спасая меня, Господь Бог послал мне совершенно необыкновенный вещий сон...
Мне снилось, что я в маленькой пустой церкви, в которой ярко освещен только алтарь. В церкви неподалеку от алтаря у стены стоит рака какого‐то преподобного, закрытая тяжелой деревянной крышкой. В алтаре на престоле положена широкая доска, и на ней лежит голый человеческий труп. По бокам и сзади престола стоят студенты и курят папиросы, а я читаю им лекции по анатомии на трупе. Вдруг я вздрагиваю от тяжелого стука и, обернувшись, вижу, что упала крышка с раки преподобного, он сел в гробу и, повернувшись, смотрит на меня с немым укором. Я с ужасом проснулся...
Непостижимо для меня, что этот страшный сон не образумил меня. По выписке из клиники я вернулся в Ташкент и еще два года продолжал работу в гнойно‐хирургическом отделении, работу, которая нередко была связана с необходимостью производить исследования на трупах. И не раз мне приходила мысль о недопустимости такой работы для епископа. Более двух лет еще я продолжал эту работу и не мог оторваться от нее, потому что она давала мне одно за другим очень важные научные открытия, и собранные в гнойном отделении наблюдения составили впоследствии важнейшую основу для написания моей книги “Очерки гнойной хирургии”.
В своих покаянных молитвах я усердно просил у Бога прощения за это двухлетнее продолжение работы по хирургии, но однажды моя молитва была остановлена голосом из неземного мира: “В этом не кайся!”».
В 1934 году были опубликованы «Очерки гнойной хирургии». Это был наиболее полный и совершенно новый труд в этой области, положивший начало
отдельному направлению в медицине. Гнойные образования, изменяя ткани, ставили иной раз в тупик хирурга, надеющегося увидеть одно и сталкивающегося с другим; кроме того, гнойные образования имели массу особенностей в зависимости от того, где они находились, и от точного знания их зависела жизнь больного. Только путем опытного изучения этих особенностей могли быть даны точные рекомендации, как оказать помощь больному. Войно‐Ясенецкий упорно двигался по этому пути, глубоко переживая смерть каждого больного, происшедшую от его незнания. И его не утешало, что это незнание разделяли с ним и другие врачи, и больной так же бы умер у них или в результате не оказанной ему вовремя помощи.
Один из профессоров‐медиков, опубликовавший рецензию на его труд в 1935 году, написал: «Я вполне убежден, что “Очерки...” займут почетное, вполне заслуженное место среди настольных книг каждого активного хирурга, и хотя они по существу не учебник и не руководство, но они нередко будут учить и руководить».
Следуя примеру великого русского хирурга Пирогова, он беспощадно «относился к собственному научному и профессиональному авторитету... его... открытость и правдивость сотворила чудо, подняв хирургический авторитет Войно‐Ясенецкого на недосягаемую для многих высоту».
13 февраля 1936 года епископу Луке была присуждена ученая степень доктора медицинских наук без защиты диссертации, учитывая «непрерывную научную деятельность в течение двадцати семи лет, результатом которой явился ряд ценных работ, во главе которых должен быть поставлен солидный и важный для хирургов труд “Очерки гнойной хирургии”».
Все это время владыка занимался широкой благотворительной деятельностью. Были люди, которым он неукоснительно высылал помощь каждый месяц. Он посылал ежемесячно денежную помощь епископу Иоасафу (Жевахову), многократно помогал епископам Макарию (Кармазину) и Порфирию (Гулевичу), помогал ежемесячно священникам, с которыми встретился в ссылке, как туруханскому священнику Мартину Римше, посылал деньги епископу Евгению (Кобранову), митрополитам Кириллу (Смирнову) и Иосифу (Петровых), схиархиепископу Антонию (Абашидзе).
«В 1937 году начался страшный для Святой Церкви период... – вспоминал владыка, – начались массовые аресты духовенства и всех, кого подозревали во вражде к советской власти».
Епископ Лука был арестован 24 июля 1937 года и заключен в ташкентскую тюрьму. Тогда же были арестованы архиепископ Ташкентский Борис (Шипулин), протоиерей Михаил Андреев, протодиакон Иван Середа и священники кладбищенской церкви Ташкента. Все они обвинялись в участии в контрреволюционной церковно‐монархической организации и шпионской деятельности. По делу, по которому был привлечен владыка, проходило еще три человека во главе с архиепископом Борисом (Шипулиным); скоро все они стали себя оговаривать. Владыка, однако, отказался лжесвидетельствовать.
В Москве руководство НКВД было недовольно результатами ташкентского следствия, и к владыке был применен следственный конвейер. Однажды во время допроса следователь, ведший допрос, утомившись, заснул; его разбудил вошедший в кабинет начальник Секретного отдела. В отместку за допущенную им оплошность следователь стал со злобой бить жестким носком кожаного сапога по ногам епископа.
«Вскоре после этого, – вспоминал владыка, – когда я уже был измучен конвейерным допросом и сидел, низко опустив голову, я увидел, что против меня стояли три главных чекиста и наблюдали за мной».
В этот день они выписали постановление о заключении его в карцер на десять суток, написав, что он, несмотря на то, что «достаточно изобличен в участии в контрреволюционной церковно‐монашеской организации и шпионской работе в пользу иностранного государства... не отвечает на вопросы следователя, ведет себя грубо, вызывающе, делает оскорбительные выпады допрашивающему, наносит контрреволюционную клевету органам НКВД».
«По их приказу меня отвели в подвал НКВД, – вспоминал владыка, – и посадили в очень тесный карцер... В подвале, в карцере меня мучили несколько дней в очень тяжелых условиях».
Кроме арестованных вместе с ним, епископу назывались имена совершенно ему незнакомых людей, о которых следователи говорили, что они проходят по одному делу с ним и свидетельствуют, что он был членом контрреволюционной казачьей организации. Но владыка это категорически отверг: «Я членом контрреволюционной казачьей организации не состоял и никого из них не знаю».
28 октября 1937 года архиепископ Борис (Шипулин) под давлением следователей подписал протокол допроса с показаниями, в которых говорилось, что «в Институте неотложной медицинской помощи Войно‐Ясенецкий окружил себя антисоветским элементом, при прямом содействии которого удавалось вредить делу оказания медпомощи трудящимся.
В начале 1937 года в Институт неотложной помощи был доставлен на излечение один из передовых мастеров хлопководства – орденоносец... Лечение этого орденоносца было организовано вредительски, в результате чего последовала смерть. О его смерти ни родные, ни организации, пославшие его на излечение, уведомлены не были, а труп его был зарыт вместе со случайными лицами, умершими в Институте...Войно‐Ясенецкий, который был основным виновником этого вредительского акта, остался не разоблаченным».
Столкнувшись с лишенным границ беззаконием, епископ Лука направил письмо руководству НКВД; он писал: «Следователями по моему делу мне предъявлены тягчайшие и крайне позорные обвинения (активная контрреволюционная деятельность в союзе с казаками, шпионаж, убийство больных путем операций), лишающие меня доброго имени и чести. Следствие ведется односторонне пристрастно в сторону обвинения, оставляются без внимания и не вносятся в протокол мои заявления, оправдывающие меня. Меня лишили законного права послать заявления высшим представителям власти... Я лишен всех прав и всякой цели жизни, так как для меня невозможно ни священнослужение, ни работа по хирургии, ни очень важная научная работа, я лишен семьи, свободы и чести. Без допроса меня обвиняют в гнуснейшем из преступлений – тайном убийстве больных путем операций».
В знак протеста владыка с 18 ноября объявил голодовку, которую продолжал до 25 ноября.
Епископу предложили откровенно высказать свое отношение к политике советской власти, и он его высказал, но это не удовлетворило следователя, и протокол допроса был уничтожен, а вместо него составлен другой, который владыка долго отказывался подписывать, но после того как следователь сказал, что на следующий день допрос будет продолжен и будут записаны подлинные ответы святителя, владыка подписал протокол и был, конечно, снова обманут.
Епископ Лука вспоминал: «На допросах арестованных применялись... пытки. Был изобретен так называемый допрос конвейером, который дважды пришлось испытать и мне... Допрашивавшие чекисты сменяли друг друга, а допрашиваемому не давали спать ни днем, ни ночью.
Я опять начал голодовку протеста и голодал много дней. Несмотря на это, меня заставляли стоять в углу, но я скоро падал на пол от истощения... От меня неуклонно требовали признания в шпионаже, но в ответ я только просил указать, в пользу какого государства я шпионил. На это, конечно, ответить не могли. Допрос конвейером продолжался тринадцать суток, и не раз меня водили под водопроводный кран, из которого обливали мою голову холодной водой».
Задумав, хотя бы на время прервать эту пытку, владыка решил инсценировать самоубийство, чтобы попасть в больницу. Но дело кончилось тем, что следователь отвел его в соседнюю комнату и предложил поспать на голом полу, положив под голову вместо подушки пачку газет. Когда он проснулся, его уже ждал начальник Секретного отдела, который предложил ему подписать сочиненную им ложь о шпионаже, но владыка только посмеялся над этим требованием, и 7 декабря 1937 года следователями был составлен акт о том, что «обвиняемый Войно‐Ясенецкий отказался от дачи дальнейших показаний, возводя при этом клевету на органы НКВД»49, имея в виду, что тот жаловался вышестоящему начальству на допускаемые следователями беззакония и пытки.
Вскоре епископа перевели из следственного корпуса НКВД в ташкентскую тюрьму. Обессиленный от голода и допросов он упал в обморок на грязный и мокрый пол в коридоре тюрьмы, и в камеру его внесли на руках. Здесь он пробыл около восьми месяцев в довольно тяжелых условиях.
«Большая камера наша, – вспоминал владыка, – была до отказа наполнена заключенными, которые лежали на трехэтажных нарах и на каменном полу в промежутках между ними. К параше, стоявшей у входной двери, я должен был пробираться по ночам через всю камеру между лежавшими на полу людьми, спотыкаясь и падая на них.
Передачи были запрещены, и нас кормили крайне плохо. До сих пор помню обед в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, состоявший из большого чана горячей воды, в которой было разболтано очень немного гречневой крупы».
В тюрьме владыка не скрывал, что его преследуют за веру. Он говорил: «Мне твердят: сними рясу, – я этого никогда не сделаю. Она, ряса, останется со мной до самой смерти... Не знаю, что они от меня хотят. Я верующий. Я помогаю людям как врач, помогаю и как служитель Церкви. Кому от этого плохо? Как коршуны, нападают на меня работники ГПУ...»
В камере, где сидел владыка, некоторые из заключенных, прежде чем идти на допрос, подходили к нему под благословение. Это не нравилось тюремному начальству, и владыка был вызван в тюремную больницу к врачу, которому было поручено уговорить его снять рясу и не привлекать к себе внимание как к церковному деятелю. Но владыка заметил на это врачу, что тот взялся исполнять непосильную для себя миссию.
Епископ Лука каждый день утром и вечером, вставая на колени, молился. В это время в камере затихали все споры и все разговоры: окружающие его люди – и мусульмане и неверующие – невольно начинали говорить шепотом. Во время раздачи утренней пайки атмосфера в камере иногда накалялась до предела, но владыка Лука никогда не вмешивался в спор о еде, сидя обычно в стороне, пока какая‐нибудь рука не протягивала ему ломоть хлеба.
Следствие по делу всех арестованных вместе с владыкой было закончено; согласившиеся подписать лжесвидетельства против себя и своих собратий были расстреляны, но упорный епископ Лука продолжал сопротивляться, объявляя голодовки и протестуя против беззаконий следователей; почти два года владыка находился в тюрьме; 20 февраля 1939 года следственный отдел НКВД в пятый раз выписал постановление о продлении срока ведения следствия по его делу. И допросы снова были возобновлены.
– Из показаний Бориса Шипулина, Середы... вы состояли членом руководящего центра контрреволюционной церковно‐монашеской организации, созданной и работавшей по заданию английского разведчика... и принимали в этой контрреволюционной организации активное руководящее участие. Дайте об этом показания, – в очередной раз потребовал от епископа следователь.
– Я членом руководящего центра контрреволюционной церковно‐монашеской организации не состоял и участия в работе контрреволюционной организации не принимал.
– Вы даете ложные показания. Вас изобличает обвиняемый Шипулин, который в своих показаниях... говорит, что вы принимали участие в контрреволюционных сборищах членов организации и участвовали в обсуждении целого ряда политических вопросов о событиях международного и внутреннего положения, о новой конституции и других, трактовали эти вопросы в антисоветском направлении. Вы это признаете?
– Я это не признаю. Этого совершенно не было.
– По показаниям свидетеля Федермессер, вы во время подготовки к выборам в Верховный Совет СССР высказывали ей свое недовольство в отношении этих выборов, указывали на то, что вы не будете участвовать в этих выборах, так как вы «человек гонимый», политической партией и существующим строем недовольны. Вы подтверждаете эти показания?
– Возможно, что такой разговор с врачом‐хирургом Института неотложной помощи Рахиль Константиновной Федермессер и был, но точно самого разговора не помню.
В тот же день была устроена очная ставка епископа со свидетельницей, во время которой она показала:
– Примерно в мае 1937 года... в личной беседе со мной по поводу предстоящих выборов в Верховный Совет СССР Войно‐Ясенецкий заявил: «Я участвовать в выборах в Верховный Совет не буду, так как я человек, гонимый со стороны существующего строя за свои религиозные убеждения».
– Вы подтверждаете показания свидетеля Федермессер? – спросил епископа следователь.
– Я показания свидетеля Федермессер полностью подтверждаю. Я такое заявление сделал потому, что предвидел, что я буду арестован до выборов в Верховный Совет.
– Вы показали, – обратился следователь к свидетельнице, – что Войно‐Ясенецкий в беседах с вами говорил о том, что женщина по сравнению с мужчиной по своим умственным способностям стоит ниже, поэтому она не может быть хорошим хирургом, а профессором тем более, что Войно‐Ясенецкий на службе занимался чтением религиозных книг и в воскресные дни не выходил на работу.
– Вы подтверждаете показания свидетеля Федермессер? – спросил следователь епископа.
– Я своих разговоров по поводу умственных способностей женщин не помню, но подлинные мои мысли по этому вопросу совершенно иные. Я говорил и говорю, что женщина в умственном и деловом отношении вполне равна мужчине, а уступает ему только в творческих способностях, и гениальных женщин история не знает.
Следователь, однако, продолжая допрашивать, требовал от епископа подтверждения показаний других лжесвидетелей, некоторые из которых были к тому времени уже казнены.
– По показаниям Андреева, вы с церковной кафедры в соборе пропагандировали антисоветские взгляды, превратили собор в место сборища почти всех контрреволюционных людей города Ташкента и играли руководящее участие в проведении контрреволюционной деятельности церковников. Вы это подтверждаете?
– Я это категорически отрицаю.
– Из показания Андреева, вы были инициатором контрреволюционной организации под названием «Автономия Туркестанской Церкви», в основу деятельности которой было положено развертывание борьбы с советской властью за самостоятельность и независимость Церкви и восстановление монархического строя в СССР. Вы это подтверждаете?
– Нет, я этого показания не подтверждаю. Показание совершенно ложно. Инициатором автономии Туркестанской Церкви был не я, а архиепископ Туркестанский Иннокентий (Пустынский)... когда он на собрании духовенства... поставил вопрос об автокефалии Церкви... Из разъяснений Иннокентия я понял, что автокефалия есть отделение Церкви от высшей церковной власти, что имело целью эмансипацию от «Живой церкви» (ВЦУ), чтобы избежать их преследований. Вопрос был чисто церковный и никакого политического значения не имел. Я, как и другие члены собрания, возражал против автокефалии, считая ее незаконной с канонической точки зрения. Собрание кончилось тем, что Иннокентий разорвал заготовленный текст объявления об автокефалии...
– Вы даете ложные показания, в этом вас изобличает священник Андреев, который в своих показаниях указывает: «После ареста Патриарха Тихона, по совету Войно‐Ясенецкого, епископом Иннокентием собираются нелегальные собрания контрреволюционного элемента из духовенства... На одном из таких сборищ Войно‐Ясенецкий поставил перед нами вопрос о поддержке Патриарха Тихона, его политики и продолжении борьбы с советской властью. Здесь же Войно‐Ясенецкий и епископ Иннокентий представили на рассмотрение и утверждение проект контрреволюционной организации под названием “Автономия Туркестанской Церкви”». Почему вы это скрываете от следствия?
– Я это не скрываю, а отрицаю, так как это сплошная ложь.
– Вы перед своим арестом, как об этом показывает Андреев, оставили членам контрреволюционной организации... завещание: «быть твердыми в своем убеждении, что советская власть дана за грехи». Такую установку вы давали?
– Я такой установки не давал. Мое воззвание к верующим ограничивалось призывом не принимать живоцерковного епископа.
– Какую контрреволюционную группу из ссыльного духовенства вы организовали в городе Енисейске, будучи там в ссылке вместе с Андреевым, и какие нелегальные сборища устраивали в то время?
– Никакой контрреволюционной нелегальной группы в Енисейске я не организовывал, отбывая там ссылку в 1924 году. Ко мне лишь иногда заходили два‐три священника из ссыльных, которые ехали со мной этапом или ранее прибывшие в Енисейск. Я не только не занимался никакой организацией контрреволюционной группы, но открыто вел борьбу против «Живой церкви», убеждая местных енисейских священников‐обновленцев в канонической преступности их поведения.
– С какой целью вы оказывали помощь деньгами целому ряду административно‐ссыльных священников и епископов?
– Я оказывал материальную помощь многим из духовенства в Ташкенте и других городах с благотворительной целью, как нуждающимся.
– По показаниям Шипулина, вы проводили вредительскую работу в Институте неотложной помощи. Расскажите об этом следствию.
– Никакой вредительской работы я в Институте неотложной помощи не проводил. Его показания ложные.
– Вы все время ведете себя на следствии неискренне, скрываете от следствия свою контрреволюционную деятельность, в этом вас изобличают свидетели Шипулин Борис, Середа Иван, Андреев... Почему же вы скрываете от следствия свою контрреволюционную деятельность?
– Никогда у меня с этими людьми, за исключением Андреева до 1926 года, не было близких взаимоотношений...
20 марта 1939 года следователь снова вызвал епископа на допрос и предложил ему дополнить свои показания.
– Ложность оговора меня, – сказал владыка, – архиепископом Шипулиным, протодиаконом Середой... явствует из следующих фактов... Еще в 1936 году я получил письмо от епископа Макария Кармазина, проживающего в ссылке при станции Уш‐Табе... который писал мне, что прервал общение с архиепископом Борисом Шипулиным после того, как достоверно узнал, что при прежних арестах он своим лжесвидетельством погубил нескольких невинных людей... и советовал держаться дальше от него... Относительно протодиакона Середы мне, как многим верующим... еще с 1926 года было известно, что он состоит секретным сотрудником и носит кличку «Облезшая Крыса». Ясно, что с такими людьми участвовать в антисоветской организации я не мог... Участвовать в шпионской работе совместно с польским ксендзом... я также не мог, так как относительно Щебровского, фигурирующего в деле в качестве посредника по шпионажу, я был предупрежден... что это опасный провокатор и секретный сотрудник ГПУ. Непосредственно от протодиакона Середы, сидевшего рядом со мной, я узнал, что его показания против меня были вынуждены и от которых он клялся отказаться на суде. То же самое сообщил мне запиской, переданной из соседней камеры, Борис Шипулин, который, кроме того, писал, что его показания были искажены следователем и он был вынужден их подписать.
29 марта 1939 года епископа Луку вызвали на допрос, чтобы он ознакомился с материалами «дела» и, если пожелает, сделал какие‐нибудь дополнения к ним.
– Ознакомившись с делом, – заявил после этого епископ, – я прошу дать очную ставку со свидетелем Михаилом Михайловичем Андреевым. Весьма существенные дополнения изложены мной в прилагаемом при сем заявлении.
«В первом протоколе допроса я назван поляком по воле следователя... – писал епископ. – На самом деле я всю жизнь считался русским. Так как упоминание о моем дворянском происхождении придает неблагоприятную окраску моей личности, то я должен разъяснить, что отец мой, дворянин, в юности жил в курной избе белорусской деревни и ходил в лаптях. Получив звание провизора, он лишь два года имел свою аптеку, а потом до старости был служащим транспортного общества. Никакой собственности он, как и я, не имел.
В деле отсутствуют мои заявления наркому о трех голодовках. Причиной первой, начатой тотчас после ареста, было крайнее возмущение неожиданным арестом среди напряженной научной работы, весьма важной для военно‐полевой хирургии, и глубокое сознание своей непричастности к каким‐либо преступлениям...
Вторая голодовка, начатая с первого же дня “непрерывки”, была вызвана тем, что на меня внезапно обрушился поток ужасной ругани и оскорблений. Я предпочитал умереть от голода, чем жить с незаслуженным клеймом шпиона, врага народа, убийцы своих больных путем операций. Голодовка эта, как и первая, продолжалась семь дней, и следствие в форме “непрерывки”, при сидении на стуле день и ночь без сна, продолжалось. На седьмую ночь следователь Кириллов составил протокол о моем отношении к революции и советской власти. Этот протокол, датированный 23 ноября 1937 года, я, несмотря на тяжелое состояние от голода и лишения сна, долго отказывался подписать, но следователь Кириллов обманул меня обещанием продолжить протокол завтра и в нем изложить подлинные мои ответы... Прошу принять во внимание следующее изложение моего политического “credo”...
Признать себя контрреволюционером я могу лишь в той мере, в какой это вытекает из факта проповеди Евангелия, активным же контрреволюционером и участником дурацкой поповской контрреволюции я никогда не был, и до крайности оскорбительна мне роль блохи на теле колосса – советской власти, приписываемая мне следствием и ложными показаниями моих оговорщиков. Все двадцать лет советской власти я был всецело поглощен научной работой по хирургии и чистым служением Церкви, очень далеким от всякой антисоветской агитации. Совершенно неприемлемо для меня только отношение советской власти к религии и Церкви, но и здесь я далек от активной враждебности...
В течение трех недель я был доведен до состояния тяжелейшей психической депрессии, до потери ориентации во времени и пространстве, до галлюцинаций, до паралича задних шейных мышц и огромных отеков на ногах. Мучение было так невыносимо, что я неудачно пытался избавиться от него (без цели самоубийства) перерезкой крупной артерии. В конце “непрерывки”, дойдя до отчаяния, я предложил следователю Кириллову написать признание, в котором все будет сплошной ложью. На мой вопрос, ищет ли НКВД правды или нужна и ложь, следователь Кириллов ответил: “Чего же, пишите, может быть, нам что‐нибудь и пригодится”. Такой же точно ответ я услышал и от начальника 2‐го отделения Лациса, которого следователь Кириллов позвал вместо наркома, от которого я хотел получить санкцию слов Кириллова... Я предупредил, что никаких дальнейших показаний о составе и деятельности неизвестной мне контрреволюционной организации я, конечно, дать не могу. Тем не менее на следующее утро Кириллов и Лацис потребовали этих показаний и составили акт о моем отказе от дальнейших показаний. Я немедленно начал третью голодовку с целью получить возможность в заявлении о ней сообщить наркому о происшедшем. Голодовка продолжалась семь дней, и заявления моего о ней в деле нет».
15 мая 1939 года было вынесено постановление по «делу» епископа, в котором повторялись все предыдущие формулировки обвинения и предлагалось: «вследствие того, что основные свидетели по данному делу... в 1937–1938 годах осуждены к высшей мере наказания, настоящее дело для слушания в Военный трибунал направлено быть не может... следственное дело... направить для разбора на Особое Совещание при НКВД СССР».
Летом 1939 года епископ Лука вновь объявил голодовку и был помещен в тюремную больницу. Следователи потребовали от него прекращения голодовки, обещая взамен освободить, и владыка передал детям записку: «Через сутки буду дома». Но сотрудники НКВД в очередной раз обманули его, и он написал: «Меня обманули, не выпускают, возобновил голодовку».
13 февраля 1940 года Особое Совещание при НКВД приговорило епископа Луку к пяти годам ссылки в Красноярский край, и 29 февраля он был отправлен в Красноярский край в село Большая Мурта, где стал работать врачом в местной больнице; здесь он подготовил ко второму изданию свою книгу «Очерки гнойной хирургии». Храм в селе был взорван, и владыка ходил молиться в ближайшую рощу, ставя на пенек складную иконку. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война; немцы быстро продвигались по территории России, и в глубоком тылу стали организовываться огромные госпитали, в частности, в Красноярске были устроены десятки госпиталей, рассчитанные на десять тысяч коек. Епископ предложил властям свою помощь в качестве хирурга и в октябре 1941 года был назначен консультантом всех красноярских госпиталей.
Владыка брал к себе самых тяжелых больных; во время прихода в Красноярск эшелонов с ранеными, он посылал встречать их своих сотрудников‐врачей с просьбой, чтобы они отбирали для него самые сложные случаи, которые считались безнадежными; многие из этих раненых выжили лишь благодаря тому, что их лечил епископ Лука. Здесь большое значение имело не только врачебное искусство святителя, но еще в большей степени его вера в помощь Божию, здесь было явлено множество чудес, которые Господь сотворил руками архиерея. Владыка знал каждого своего больного в лицо, знал его имя, фамилию, держал в памяти все подробности операции и послеоперационного периода; он говорил своим коллегам‐врачам: «Для хирурга не должно быть “случая”, а только живой страдающий человек». Но тяжело он переживал и смерть своих больных: «Было три смерти в операционной, и они меня положительно подкосили... – писал он сыну, – я переношу их все тяжелее и тяжелее... Молился об умерших дома, храма в Красноярске нет...»
Летом 1942 года окончился срок ссылки и епископ Лука был возведен в сан архиепископа. Управляющий делами Московской Патриархии протопресвитер Николай Колчицкий направил владыке письмо, в котором выразил возможность назначения его на кафедру.
В ответ архиепископ писал: «Конечно, неожиданно было для меня Ваше письмо, ибо я никак не мог предполагать, чтобы моя персона могла вызывать такой интерес. Признаться, я смущен Вашим чрезмерно высоким мнением обо мне и думаю, что Вы очень преувеличиваете, ставя меня чуть ли не первым среди иерархов Русской Церкви. Я сам мало с кем из них знаком, но вполне уверен, что среди них есть гораздо более сильных, чем я, в вере, благочестии, православии, любви, обладающих высокими нравственными достоинствами, которых мне недостает. Некоторое преимущество дает мне знакомство с естествознанием, которого весьма чужды наши архиереи, и надеюсь, что Господь поможет мне использовать его на благо Церкви. А планы у меня в этом отношении большие. Скажите, считаете ли Вы реальной возможность осуществления мечты о моем будущем, о которой Вы пишете? Это ведь самое горячее желание моего сердца...»
Между Местоблюстителем митрополитом Московским Сергием и архиепископом Лукой завязалась переписка относительно насущных церковных вопросов. 9 октября 1942 года в ответном письме митрополиту Сергию архиепископ писал: «В Вашем последнем письме дорого и важно для меня то, что Вы Вашими ссылками на историю Церкви, гораздо лучше известную Вам, чем мне, на жития святых, умеряете мой чрезмерно строгий ригоризм в отношении согрешающих членов Церкви. Но и те аргументы из Священного Писания в пользу строгих требований, которые привел я в моем письме, кажутся мне неустранимыми. По‐видимому, должную линию поведения в отношении отлучения надо искать где‐то посредине...»
27 декабря 1942 года митрополит Сергий направил относительно архиепископа Луки указ: «...не отрывая его от работы в военных госпиталях по его специальности, поручить управление Красноярской епархией с титулом архиепископа Красноярского».
Храма в то время в городе по‐прежнему не было. «Давно обещали открыть у нас одну церковь, – писал владыка Лука сыну, – но все еще тянут, и я опять останусь без богослужения в великий праздник Рождества Христова».
5 марта 1943 года он сообщил сыну: «Господь послал мне несказанную радость. После шестнадцати лет мучительной тоски по церкви и молчания отверз Господь снова уста мои. Открылась маленькая церковь в Николаевке, предместье Красноярска...»
«До крошечной кладбищенской церкви в Николаевке полтора часа ходьбы с большим подъемом на гору, и я устаю до полного изнеможения...
Служить мне в ней можно было бы только священническим чином, но и это пока невозможно, так как нет облачений. По‐видимому, получим их из театра. Нет диакона, певчих, даже псаломщика. Служит семидесятитрехлетний протоиерей, а я проповедую. Это для меня и для народа огромная радость. Есть большая надежда, что весной откроют Покровскую церковь...»
Однако чуть позже он написал: «Церкви в городе не хотят открывать, а из Ташкента пишут, что туда приехал обновленческий архиерей, и для него открывают много церквей... А в Николаевку осенью и весной ходить невозможно. Недавно я пошел после дождя, упал в грязь и вернулся».
8 сентября 1943 года владыка принял участие в Архиерейском Соборе, избравшем Патриархом митрополита Сергия. 15 декабря 1943 года на заседании Священного Синода Патриарх Сергий предложил перевести архиепископа Луку «с Красноярской кафедры на Тамбовскую, в виду непосильных для старца внешних условий служения в Красноярске».
5 февраля 1944 года архиепископ Лука направил Патриарху Сергию обширный доклад о положении дел в Красноярской епархии. «Когда я прибыл в ссылку в Красноярский край в апреле 1940 года, – писал владыка, – начальник районного НКВД похвалился мне: “Во всей Сибири мы не оставили ни одной церкви”. Это почти соответствовало действительности, ибо в то время, как я мог выяснить, только в Новосибирске функционировала кладбищенская церковь. В начале марта 1943 года, после усиленных хлопот почти в течение года, была открыта очень маленькая кладбищенская церковь в слободе Николаевке, предместье Красноярска. Из города до этой церкви пять‐семь километров, осенью и зимой дорога очень трудна и опасна, так как в Николаевке много грабителей. Поэтому на всенощных бывает совсем мало богомольцев, и за год я служил всенощную только два раза в большие праздники и вечерние службы Страстной седмицы, а перед обычными воскресными службами вычитывал всенощную дома, в госпитале, при шуме звукового кино и концертов. Только в последнее время стали присылать за мной лошадь, запряженную в розвальни, а почти год я ходил в церковь пешком и доходил до такого переутомления, что и в понедельник не мог работать в госпитале. Начинать мое красноярское служение я должен был с единственным священником протоиереем Захаровым. Он оказался самым дурным священником, какого я когда‐либо встречал, и мне пришлось вскоре запретить его в священнослужении. За свое поведение, о котором я представляю особый доклад Священному Синоду, он заслуживает лишения сана. Месяца через три после открытия церкви Бог послал второго священника Николая Попова, почти безукоризненного, а за два‐три месяца до моего отъезда из Красноярска я имел возможность назначить настоятелем протоиерея Петра Ушакова, с помощью которого удалось обновить состав церковного совета, а его самого сделать председателем совета. Протоиереем Захаровым была подобрана шайка сообщников по расхищению церковных денег, производившемуся в большом масштабе. Эта компания, состоявшая из бывших обновленцев, усиленно добивалась получить Покровскую церковь в центре города, по‐видимому имея в виду выписать обновленческого архиерея. Запрещение Захарова и объявление в церкви, и лишение архиерейского благословения главной деятельницы банды, по‐видимому, вполне парализовали их враждебные замыслы. Эти наши действия... привлекли к нам многих староцерковников, не ходивших в церковь при Захарове…
Из многих сел, районных центров и городов поступали ходатайства об открытии церквей, и я давал им должное направление, но на все эти ходатайства мы получали один ответ из краевого исполкома: “Ходатайства посланы в Москву, и по получении ответов вам будет сообщено”. Но ни одного ответа ни я, ни общины, возбуждавшие ходатайства, не получили и через шесть‐восемь месяцев. В некоторых городах и районных центрах представителей общин, подававших ходатайства об открытии церквей, встречали по‐прежнему очень грубо, с запугиванием и угрозами.
Вся Восточная Сибирь, от Красноярска до Тихого океана, не подавала никаких признаков церковной жизни и никаких запросов или ходатайств ко мне не поступало. По моим наблюдениям и по отзывам сибирских священников, вообще можно сказать, что народ в Сибири, особенно в Восточной, мало религиозен. До моего отъезда из Красноярска во всей огромной епархии крошечная церковь в Николаевке оставалась единственной. Если не будут открыты в близком будущем храмы в различных местах Красноярского края, то грозит религиозное одичание народа...»
7 февраля 1944 года архиепископу Луке был направлен указ о переводе его в Тамбов, где он, как и в Красноярске, совместил архипастырскую деятельность с работой в госпиталях. Во всей епархии оставалось в то время только две церкви, в Тамбове и в Мичуринске.
26 февраля 1944 года в Покровском храме владыка произнес свою первую проповедь, в которой, в частности, сказал: «Пятнадцать лет были закрыты и связаны мои уста, но теперь они вновь раскрылись, чтобы благовествовать вам слова Божии. Примите мои утешения, мои бедные, голодные люди. Вы голодны отсутствием проповеди слова Божия. Храмы наши разрушены, они в пепле, угле и развалинах. Вы счастливы, что имеете хоть небольшой, но все же храм...»
Обновленцы стали возвращаться в Патриаршую Церковь, и владыка составил для этой цели чин принятия их в православие. 5 марта 1944 года в Покровском храме состоялось принятие в православие обновленческого священника из города Кирсанова. На литургии на малом входе священник вслух читал текст покаяния, где, в частности, были такие слова: «Пред Великим и Всеправедным Богом иму же мерзость, лукавство пред тобою, Владыко святый, и пред народом православным исповедую мой смертный грех нарушения единства Церкви и участие в расколе живоцерковном и обновленческом.
Уча свою паству идти за Христом путем тесным и прискорбным, я сам в малодушии своем убоялся страданий за Христа и избрал путь лукавства и неправды, забыл я обличающие раскольников‐обновленцев слова святого апостола Иоанна Богослова: “Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши” [1 Ин. 2, 19]... Горе мне, окаянному, ибо мне говорит Христос: “Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской” [Мф. 18, 6]... Господи, Иисусе Христе, Боже наш, Ты рекл еси пречистыми усты Твоими, яко радость будет на небеси о едином грешнике кающемся, нежели о девятидесяти и девяти праведных, не требующих покаяния. Прости же, Господи, и мне, грешному, тяжкий грех мой...»
После литургии владыка обратился с проповедью к народу. «Под православием, – сказал он, – надо разуметь сохранение правой веры, данной нам Христом в Евангелии и в учении святых отцов во Вселенских Соборах. Но на протяжении веков православная вера подвергалась испытаниям и искажениям людей, по своей гордости не подчинявшихся авторитету Церкви и вводивших свои человеческие толкования в учения...
В 1922 году в Русской Церкви появился страшный раскол живоцерковной кучки священников с некоторыми архиереями – не захотели поминать Святейшего Патриарха Тихона и отмежевались от него, убоясь гонений. В 1923 году они созвали свой самочинный Собор и увлекли за собой хитростью, лестью и обманом часть доверчивых людей, образовав обновленческий раскол.
Но простой русский православный народ явился хранителем православия. В истории известно, что хранителями истины нередко являются не архиереи и священники, а народ. И вот наш народ восстал против обновленцев. Обновленческих священников и архиереев гнали из церкви, сбрасывали с лестниц церковных, кидали в них камнями, срывали с них одежды священнические, разрывали мантии на архиереях, били их, клеймили позором. Правда, за это некоторые из православных пострадали, но зато получили венцы мученические. Честь и хвала защитникам православия!.. Вот и ваш храм и община были обновленческими, и вы повинны в этом грехе раскола... Вы слышали сегодня за литургией, как каялся, плакал об этом грехе священник... осознав тяжесть греха раскола, – так и вы кайтесь в нем. Идя на исповедь, откройте этот грех своим священникам и получите прощение».
Через несколько дней благочинный, служивший в Покровском храме и бывший когда‐то обновленцем, заявил владыке:
– Это были гонимы мы, обновленцы...
– На вас, обновленцев, было не гонение, – возразил архиепископ, – а выражение презрения народа. Гонимы были мы, староцерковники, от власти, так как архиереев, не пожелавших занять живоцерковнической кафедры, ссылали, храмы, которые не хотели подчиняться живоцерковническому правлению, закрывали. Обновленческие священники и епископы были агентами. По изгнанию из храма одного обновленческого священника, у него нашли в ящике составленный им список староцерковных священнослужителей – для ареста, и первым в списке был я.
Власти были разозлены содержанием чина покаяния, задевающим их верных слуг – обновленцев, и поставили об этом в известность Патриарха, потребовав, чтобы он отправил архиепископу Луке соответствующее письмо.
22 марта архиепископ Лука пришел к уполномоченному Совета по делам Русской Православной Церкви по Тамбовской области по поводу отказа властей открыть в Тамбове собор. В беседе участвовал подполковник госбезопасности, начальник 2‐го отдела УНКГБ, выдавший себя перед святителем за сотрудника облисполкома.
– Если вы находите, что ответ вас не устраивает, то можете поставить вопрос перед Советом, – сказал один из них.
– Я поставлю вопрос перед Святейшим, – ответил владыка, – о переводе меня из Тамбова, по примеру того, как я уехал из Красноярска, где не было для меня храма и я вынужден был ходить для совершения богослужения за несколько километров.
В отчете Совету Тамбовский уполномоченный написал: «Для пополнения священнослужителей Покровской церкви города Тамбова архиепископ представил анкету для регистрации священника... по данным НКГБ, реакционно настроенного, и по установке НКГБ кандидатуру... нужно отклонить. Я в беседе ему заявил, что... нецелесообразно регистрировать, так как он не посещал Покровскую церковь, считал ее неблагодатной и неправославной, несмотря на то, что она была в каноническом общении с Московской Патриархией, где за службой поминался Патриарх Сергий...»
О своей медицинской деятельности в Тамбове владыка писал сыну: «Работа в госпитале идет отлично... Читаю лекции врачам... Свободных дней почти нет. По субботам два часа принимаю в поликлинике. Дома не принимаю, ибо это уже совсем непосильно для меня. Но больные, особенно деревенские, приезжающие издалека, этого не понимают и называют меня безжалостным архиереем. Это очень тяжело для меня. Придется в исключительных случаях и на дому принимать».
Однажды при обходе госпиталя больной красноармеец попытался оскорбить владыку и нарочито громко спросил, зачем здесь ходит этот длинноволосый. В тот же день Господь тяжело наказал его: в двенадцать часов ночи с ним произошел смертельный приступ, и он обратился с настоятельной просьбой – вызвать к нему епископа‐врача. Архиепископ сразу же приехал и вошел в палату больного, который стал со слезами просить у него прощения и умолять, чтобы он спас ему жизнь, так как он уже чувствует приближение смерти. Владыка распорядился, чтобы приготовили все к операции, а затем спросил больного, верует ли он в Бога, так как не профессор, не врач возвратит ему жизнь, а Господь рукою врача.
Больной с плачем стал говорить, что теперь он верует, так как вполне осознает, что поплатился ухудшением своего состояния за грубую насмешку над святителем. Владыка в ту же ночь провел операцию, и жизнь больного была спасена. Этот случай произвел отрезвляющее действие на многих больных госпиталя.
Не забывал владыка в то время и благотворительности. Однажды, идя на службу, он увидел возле церкви опечаленную чем‐то женщину и спросил ее:
– Почему ты, сестра, стоишь такая грустная?
– У меня пятеро детей маленьких, а домик совсем развалился, – ответила вдова.
– Ну, подожди конца службы, я хочу с тобой поговорить.
После службы он повел вдову к себе домой, расспросил об обстоятельствах ее жизни и дал ей денег на постройку дома.
Безбожные власти, однако, были недовольны любыми церковными успехами, и председатель Совета по делам Русской Православной Церкви генерал НКГБ Карпов* писал в отчете об архиепископе Луке: «Тамбовский владыка в хирургическом госпитале в своем кабинете повесил икону, перед исполнением операций совершает молитвы, на совещании врачей эвакогоспиталя за столом президиума находится в архиерейском облачении, в дни Пасхи 1944 года делал попытки совершать богослужения в нефункционирующих храмах, делал клеветнические выпады по отношению к обновленческому духовенству».
Архиепископ Лука считал своим долгом поддерживать все ходатайства верующих об открытии храмов. В марте 1944 года в облисполком пришел с заявлением об открытии храма житель села Ламки. Во время беседы с ним местного уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви сюда же пришел владыка и, услышав, что верующие просят вернуть им переоборудованное под клуб здание церкви, сказал: «Клуб нужно закрыть, а здание отдать под церковь, так как церковь важнее клуба. Все равно в ваш клуб никто не ходит, а посмотрите, сколько молодежи бывает в церкви».
3 апреля 1944 года архиепископ Лука отправил Карпову письмо. «М. Д. Медведев сообщил мне о Вашем отказе, открыть тамбовский кафедральный собор, – писал архиепископ. – Помимо большого личного огорчения, этот отказ вносит серьезнейшую разруху в дело лечения раненых. Ибо наша единственная, убогая и малая церковь почти непригодна для архиерейских служений. Она всегда полна народом, и даже в рядовой воскресный день невозможно пройти для каждения храма и гаснут свечи и лампады от большой духоты, ибо церковь очень низка. В большие праздники неизбежны обмороки у молящихся от духоты. Продолжать служение в ней я не считаю возможным, и если Ваш отказ в открытии собора... будет окончательным, то я буду вынужден перебраться в Мичуринск, где церковь гораздо лучше и вдвое больше, чем наша. Это сведет почти на нет мою хирургическую работу, так как там мало госпиталей и они плохо оборудованы. А в Тамбове я много оперирую, обучаю врачей трудным операциям, которых они и не видали, и выступаю с большими докладами‐лекциями на окружной конференции Орловского военного округа и на больших межгоспитальных конференциях; а в недалеком будущем собираюсь начать большой курс лекций по гнойной хирургии. Все это будет невозможно в Мичуринске. Верхний этаж собора занят не музеем, а только хаотическим складом музейного имущества, а нижний – небольшим складом эвакогоспиталей. Прошу Вас пересмотреть вопрос об открытии кафедрального собора».
Власти готовы были хвалить владыку за его работу врача, но ненавидели его за церковную деятельность и веру в Бога. Однажды владыку вызвал к себе председатель областного исполкома и, желая выразить к нему свое благорасположение, спросил:
– Чем вас премировать за вашу замечательную работу в госпитале?
– Откройте городской собор, – сказал архиепископ.
– Ну, нет, собора вам никогда не видать.
– А другого мне от вас ничего не нужно, – ответил святитель.
Председатель облисполкома вскоре умер, но пришедший на его место был не лучше. Вручая архиепископу правительственную награду – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», он пожелал ему принести еще много пользы, делясь своим богатым опытом с медиками города.
На это архиепископ ответил:
– Я учил и готов учить врачей тому, что знаю; я вернул жизнь и здоровье сотням, а может быть, и тысячам раненых и наверняка помог бы еще многим, если бы вы не схватили меня ни за что ни про что и не таскали бы одиннадцать лет по острогам и ссылкам. Вот сколько времени потеряно и сколько людей не спасено отнюдь не по моей вине.
Председатель облисполкома, пытаясь оправдаться, стал говорить, что старое пора бы забыть, а надо жить настоящим и будущим, но владыка на это отрезал:
– Ну нет уж, извините, не забуду никогда!
Несмотря на подобного рода взаимоотношения с властями, иногда казалось, что и в этих условиях для Церкви можно сделать больше; 15 июня 1944 года архиепископ Лука написал письмо Местоблюстителю Патриаршего Престола митрополиту Алексию (Симанскому) с изложением плана мероприятий по возрождению церковной жизни. Все они по реальным обстоятельствам того времени оказались неосуществимыми (а само письмо, как и следовало ожидать, попало в НКГБ), однако оно отражает глубокие чаяния и переживания верующего сердца святителя.
«Высокопреосвященнейший и дорогой Владыка, – писал архиепископ Лука. – Не терпит душа и не могу молчать, видя, что творится в Церкви Божией. О, какая страшная разруха, какой страшный голод духовный, какое множество некрещеных и лишенных христианского погребения, какая беспросветная религиозная тьма! Поскорее, поскорее надо нам, архипастырям, не покладая рук трудиться над восстановлением лежащей в развалинах и пепле Церкви Российской, и покарает нас Господь, если не будем спешить. Страшно, страшно для меня то, что мало будет помощников нам, что так оскудели делатели на ниве Христовой, ничему не научились за двадцать семь лет страшной и великой революции, продолжают мечтать о митрах и набивать карманы и мошна деньгами, нерадя о славе Божией! Поскорее, поскорее прекратите, дорогой Владыка, награждение митрами. Чтобы лечить больных, надо знать состояние всего организма их и с изучения его начинать лечение. Надо и нам понять религиозное состояние различных групп народа нашего, чтобы начать духовное врачевание.
Простой народ, крестьянский народ, тот, который прежде вереницами шел за тысячи верст в Киево‐Печерскую и Троице‐Сергиеву Лавры, в массе своей, несмотря на антирелигиозную пропаганду, остается тем же почти в религиозном отношении, как и до революции, но дичает в голоде духовном. Ему надо помочь экстренными мерами в деле восстановления богослужения, ибо оно важнее всего, поскорее надо приобщить его к великим таинствам христианским, без которых грозит маразм духовный. Медленно, нетерпимо медленно идет открытие церквей в селах, и надо ускорить его двумя мероприятиями: всемерно добиваться пред правительством немедленного открытия тех многочисленных сельских церквей, которые сохранились неповрежденными, в которых есть и утварь церковная, и облачения, и книги, возле которых часто живут без дела священники, потому что заперты двери храма. До сих пор такие церкви числятся подлежащими открытию только в общем порядке. Их должны открывать вне очереди. Не следует добиваться восстановления и открытия более или менее сильно поврежденных церквей или церквей, занятых мастерскими, складами или учреждениями, которые трудно освободить. Вместо этого, гораздо разумнее, проще и дешевле строить новые деревянные церкви‐обыденки (а не молитвенные дома, о которых часто ходатайствуют). В каждом селе найдется несколько нежилых изб, которые можно разобрать и построить из них небольшую избу с небольшим алтарем, одной главой с крестом. Вот и церковь‐обыденка.
Надо возбудить пред правительством ходатайство о разрешении постройки таких церквей во всем Союзе; надо поручить московским архитекторам выработать стандартные планы таких церквей и иконостасов, по возможности простых и дешевых.
В Москве и во всех епархиях надо поскорее организовать мастерские по изготовлению церковной утвари и свечные заводы, иконописные мастерские и переписку необходимейших церковных книг, не ожидая, пока станет возможным печатание их. Нам следует взять пример с мусульман, у которых в каждом кишлаке и ауле непременно есть не одна, а несколько маленьких мечетей. Предвижу возражение: где же взять столько священников, сколько их понадобится, если построить много церквей‐обыденок? Невозможное людям возможно Богу... Не надо останавливаться перед трудностями, не надо лавировать и изобретать способы человеческие, чтобы обойти их. “Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам” [Мф. 6, 33]. При глубокой вере в Бога все будет возможно нам, верующим, если всегда будем идти путем высшей правды. Авраам ответил сыну своему Исааку: “Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой”, ибо и в самых отчаянных обстоятельствах не поколебалась вера его. Так и мы скажем сомневающимся: “Бог усмотрит пастырей Себе” [Быт. 22, 8], найдет их там, где мы не ищем, – не из окончивших семинарии и нередко недостойных священства, а в недрах народа Божия, среди простых и чистых сердцем овец Христова стада, и наша задача будет только в том, чтобы дать им минимум богослужебных, богословских и практических знаний, необходимых для священника. Такие священники‐простецы будут даже во многих отношениях лучше священников‐семинаристов, ибо они близки к народу, плоть от плоти его. Я знал священника из полуграмотных слесарей, проповеди которого казались мне сумбурными и мало понятными, но простой народ очень хорошо понимал его, высоко ценил и любил за истинно христианское горение духа... Не дожидаясь открытия средних богословских школ, надо кликнуть клич в народе и находить достойных священства простецов, поручая образованным протоиереям и священникам вести индивидуальные занятия с ними по подготовке к священству. Ведь средние школы во всех епархиях откроются еще нескоро...
До крайности плачевно религиозное состояние советской молодежи. Она абсолютно невежественна в религиозном отношении, и ей надо было бы проповедовать Евангелие, как пермякам, мордве и черемисам. Это, однако, невозможно по советским законам, и проповедь среди молодежи возможна только двумя путями: богослужениями, которые, слава Богу, уже привлекают много молодежи, и религиозным воспитанием детей через родителей. Однако и родители в значительном большинстве весьма мало подготовлены к этому, и им надо помочь внебогослужебными беседами, на которых должны излагаться основы догматического и апологетического богословия и Священная история Ветхого и Нового Заветов. Советское законодательство разрешает ознакомление с религиозным учением молодых людей, достигших 18‐летнего возраста, и следовало бы поставить вопрос об открытии воскресных школ для них...
Особой заботы требует религиозное просвещение нашей интеллигенции... Все революции, по самому их существу, всегда сопровождались огромным подъемом антиклерикализма. Это вполне понятно, так как Церковь считают главным врагом революции, и это особенно ярко проявилось в нашей Великой революции...
Безбожие русской дореволюционной интеллигенции всегда связывалось с нигилизмом и революционностью, и потому не удивительно, что революционный подъем антиклерикализма был встречен ею с радостью и очень содействовал широкому распространению антиклерикализма, смешиваемого с атеизмом.
Вторая причина распространения безбожия и отказа от религии в наших образованных и полуобразованных кругах состоит в том, что скудомыслие и духовное убожество свойственно всякой толпе – все равно, образованной или темной; пожалуй, даже в гораздо большей степени полуобразованной толпе, чем простым, неученым людям, среди которых немало людей ясного ума и глубоких духовных запросов.
Широкая образованность и глубокое приобщение к науке, большая самостоятельная работа на научном поприще не только не уводят от Бога, а, напротив, приводят к Нему всех тех ученых, которым свойственны глубокие запросы духа. Те самые великие открытия астрономии, которые полузнаек, людей толпы, так легко побуждают к издевательству над религией, очень многих глубокомысленных астрономов приводят к трепетному благоговению пред всемогуществом Творца. Изучение физики и химии, анатомии и физиологии у людей поверхностного мышления служит поводом к укоренению в механическом и материалистическом воззрении, а у людей более глубокого духа рождает преклонение перед премудростью Создателя.
Но немногие способны прийти к сократовскому “я знаю только то, что я ничего не знаю”. Такие избранные глубоко сознают, что их незнание неизмеримо больше, чем малое научное знание, и никогда мера нашего знания не превзойдет меры незнания просто в силу ограниченности нашей способности познания, нашей телесной и духовной ограниченности.
Люди интеллигентской толпы этого не понимают и с чрезвычайной легкостью принимают за непреложную истину “последнее слово науки”, столь изменчивое и нередко противоречивое, и без критики, охотно подхватывают легкомысленные антирелигиозные выводы из такого “последнего слова”. Поистине удивительна
умственная и духовная ограниченность таких “безбожников”, часто совершенно незнакомых с религиозными учениями, никогда не читавших Евангелия и тем не менее отвергающих его и издевающихся над ним... Такие убогие интеллигенты безнадежны для истины. Но люди средние далеко не безнадежны, и очень многие из них могут прийти ко Христу, если им помочь. А помощь им крайне необходима, ибо легко верят в Бога только люди, обладающие детским простосердечием и чистотой, а для людей, головы которых затуманены наукой, вера – очень трудное дело, ибо она требует устранения множества противоречий и разрешения трудных вопросов...
Коллективным трудом христиан – ученых всех специальностей, объединяемых компетентным архипастырским руководством, должна быть изучена и подвергнута критике вся антирелигиозная литература и создана новая, серьезная апологетика. Это большое дело займет не менее трех лет, и к тому времени отсутствующая теперь возможность издания богословских книг может открыться; наше же дело – не терять времени для осуществления этой важной задачи. Без критического разбора антирелигиозной литературы и без новой апологетики не только сельское духовенство, но и многие городские протоиереи не смогут отвечать на запросы нового времени, предъявляемые к религии.
Кроме обширной и серьезной апологетики, мало доступной сельскому духовенству, необходимо написать краткий критический обзор антирелигиозных нападок для руководства мало образованных священников.
Церковь жива и сильна кровью мучеников, страданиями исповедников, великими подвигами преподобных и ради них умножающейся благодатию Божией. Жития святых, конечно, неизмеримо сильнее книг и журналов по метопсихологии, и широкое распространение их в народе очень необходимо для обращения неверующих и колеблющихся.
Двенадцатитомные Четьи‐Минеи святого Димитрия Ростовского мало кому доступны, а многочисленные краткие сборники страдают общим недостатком: то, что очень важно, изложено в них так же кратко, как и менее важное. Кроме того, богатство легендарных сказаний многих сколько‐нибудь образованных людей отталкивает от чтения житий святых. Поэтому весьма необходимо издать новый сборник житий, в котором не повторялись бы очень многочисленные и однообразные биографии святых, особенно мучеников, а излагались бы только самые яркие и святые подвиги мучеников и серьезно, подробно изложенные биографии великих святых, изъясняющие путь спасения и руководствующие к духовному деланию. Число житий в таком сборнике будет гораздо меньшим, чем в наших прежних Четьях‐Минеях, ставивших своей целью не оставить без упоминания ни одного святого; но, концентрируя лишь самое ценное, можно избавить читателей от однообразия и скуки и не устрашить их объемом книги.
К большой работе по избранию и обработке важнейших житий святых надо приступить неотложно. Как ни важна устная и печатная проповедь и пропаганда христианского вероучения, но все наши старания в этом отношении будут медью звучащей и кимвалом бряцающим, если личным примером глубокой веры и любви к Христу, исполнением заповедей Его не будем утверждать проповедь
нашу. А старые язвы духовенства и церковной жизни не излечены и страшными уроками революции. Общеизвестны важнейшие из них: корыстолюбие, небрежение в священнослужении, тщеславие и честолюбие, недостаток братолюбия. Важнейшим средством воздействия на таких худых священнослужителей всегда была архипастырская любовь и жалость к ним, великое тщание к исправлению их кротким наставлением и личным примером святой жизни. Но и меры строгости, наказания и прещения необходимы и неизбежны, и плохи те архиереи, которые заботятся больше всего о том, чтобы жить в мире со всем духовенством, не восстанавливать их против себя и потворствуют им в их прегрешениях. Очень важным и неотложным делом считаю я немедленное прекращение награждения священников митрами, ибо это очень сильное и вредное средство к усилению тщеславия и честолюбия духовенства, препятствующее борьбе с этими тяжелыми пороками. До крайности трудна борьба с очень тяжелым следствием общей церковной разрухи – всякими расколами и самочинием священнослужителей и монашествующих, не признающих патриаршей и архиерейской власти. И здесь на первое место должны мы поставить кроткое и любовное увещание и вразумление верующих народных масс и разъяснение им церковных канонов и их важности. Это должно быть делом прежде всего самих архиереев, неустанно проповедующих в городах и селах своих епархий о единении и взаимной любви, о единстве Церкви, о смирении и послушании.
Но большая твердость и непреклонность в отношении неподчиняющихся и вожаков церковного разделения, запрещение их в священнослужении, лишение сана и даже отлучение от Церкви совершенно необходимы для искоренения расколов и разъединения».
15 мая 1944 года скончался Патриарх Сергий, и в Москве было созвано Предсоборное Совещание, чтобы выработать процедуру избрания нового Патриарха, на котором присутствовал и владыка Лука. Он напомнил собравшимся, что Поместным Собором 1917–1918 годов была установлена процедура, когда кандидат в Патриархи избирался тайным голосованием из нескольких кандидатов, а затем выбирался жребием, и предложил вернуться к этой практике; поскольку выдвижение митрополита Алексия (Симанского) в качестве единственного кандидата нарушает это установление, он проголосует против его кандидатуры. В результате столь ясно обозначенной позиции архиепископ Лука не был допущен на Собор, избиравший Патриарха.
Вернувшись с Предсоборного Совещания в Тамбов, архиепископ Лука собрал священников Покровской церкви и сделал сообщение о происходившем на Совещании, сказав в частности: «На Предсоборное Совещание в Москву съехалось сорок четыре епископа, из них было больше 50 % обновленцев, и когда я об этом узнал, я был возмущен и заранее определил, что из этого Совещания толку не будет... Подготовка выбора Патриарха – извращена. Было объявлено, что будет избираться один Патриарх, а не три кандидата, из которых по жребию должен быть избран один из трех; к тому же голосование будет открытое и за одного Патриарха Алексия. Вот таков порядок, против которого я один и выступил, и меня в этом никто не поддержал, а после в разговоре отдельные епископы высказывались за мое выступление, но они не выступали».
В феврале 1945 года Патриарх Алексий I наградил архиепископа Луку правом ношения бриллиантового креста на клобуке. В январе 1946 года за выдающиеся научные работы в области медицины архиепископ Лука был награжден Сталинской премией первой степени; из денежного вознаграждения в двести тысяч рублей – сто тридцать тысяч владыка пожертвовал на помощь детям, пострадавшим от последствий войны.
В том же 1946 году архиепископу окончательно запретили выступать перед научной аудиторией в рясе и с панагией. Он писал по этому поводу сыну: «Я получил предложение Наркомздрава СССР сделать основной доклад... на большом съезде, который должен подвести итоги военно‐хирургической работе. Я охотно согласился, но написал, что нарком запрещает мне выступать в рясе, а Патриарх – без рясы. Написал и Патриарху об этом, он мне ответил письмом... его мнение совпадает с моим: выступать в гражданской одежде, прятать волосы в собрании, в котором все знают, что я архиерей, – значит стыдиться своего священного достоинства. Если собрание считает неприемлемым и даже оскорбительным присутствие архиерея, то архиерей должен считать ниже своего достоинства выступать в таком собрании... По телефону я говорил с организатором съезда... через день он сказал, что все начальство целый день было занято этим вопросом... и как будто дело дошло до ЦК партии, но на выступление в рясе не согласились. Я просил передать наркому, что принимаю это, как отлучение от общества ученых».
Начиная с 1945‐го победного года войны безбожные власти уничтожали уцелевшие здания церквей, о которых верующие возбуждали ходатайства о передаче их Церкви для совершения в них богослужений. Через два месяца после перевода архиепископа Луки с Тамбовской кафедры, в июле 1946 года, в Знаменском районе Тамбовской области по распоряжению райисполкома и Тамбовского облисполкома было взорвано сохранившееся в целости каменное здание церкви, «об открытии которой ходатайствовали верующие. Причем взрывные работы произведены силами военнопленных немцев в один из праздничных дней и в присутствии большого количества верующих».
Назначенный на кафедру в Крым, архиепископ Лука 24 мая 1946 года прибыл в Симферополь; здесь начался последний и, может быть, самый трудный период жизни святителя‐исповедника. Труды церковные, труды врачебные, которые владыка не оставлял еще в течение нескольких лет, осложнялись выматывающими гонениями от безбожных властей. Если раньше безбожники ставили своей целью уничтожение Церкви и достигали этого через аресты священнослужителей, то теперь, преследуя ту же цель, они мыслили достигнуть ее не только через аресты, но и через усиленную работу по нравственному разложению священнослужителей и мирян, чтобы таким образом добиться закрытия всех храмов в России и самоликвидации Русской Православной Церкви. Над достижением этой дьявольской цели трудились тысячи щедро оплачиваемых государством людей, на каждого священника и, тем более архипастыря, выделялись десятки этих дьявольских слуг, стремившихся подчинить себе священнослужителя, сделав его послушным орудием разрушения Церкви, или уничтожить.
На следующий день после прибытия в Симферополь архиепископ Лука послал к местному уполномоченному Совета по делам Русской Православной Церкви секретаря епархии, через которого передал, что он прибыл и вступил в управление епархией, на что уполномоченный заявил, пусть архиепископ сам к нему явится.
Через день владыка приехал к уполномоченному и, представляясь, сказал:
– Архиепископ Лука.
– Валентин Феликсович, – с вызовом поправил уполномоченный, приглашая владыку сесть.
– Я был Валентин Феликсович двадцать пять лет назад, – спокойно заметил владыка, – а сейчас архиепископ Лука.
На это замечание уполномоченный угрюмо промолчал.
Через несколько дней уполномоченный снова потребовал, чтобы архиепископ явился к нему, снова назвав его по имени‐отчеству.
– Вы... все же упорно настаиваете на том, чтобы называть меня светским именем? – спросил его архиепископ.
– Вы имеете советский документ – паспорт. Как вы там записаны?
– Ну конечно, как вы называете.
– Ну вот и правильно, только так я и могу вас называть!
Владыка добродушно рассмеялся и сказал:
– Вы привыкнете меня называть иначе.
В ответ уполномоченный стал отчитывать архиепископа за то, что тот допустил совершать богослужения в соборе архимандриту Тихону (Богославцу), между тем как архимандрит Тихон был по его требованию предыдущим архиереем уволен за штат и в связи с этим снят с регистрации и не имеет теперь справки, без которой ни один священнослужитель не может совершать богослужения и требы.
Архиепископ стал убеждать уполномоченного зарегистрировать архимандрита Тихона или по крайней мере не препятствовать, когда тот будет совершать богослужения вместе с ним, но уполномоченный ответил на это категорическим отказом.
Спустя месяц уполномоченный снова потребовал, чтобы архиепископ явился к нему, и весьма агрессивно заявил:
– Валентин Феликсович! Вы провели ряд перемещений, увольнений, вызывали из других епархий ряд священников, и я узнаю об этом только тогда, когда приходят ко мне с вашими приказами для получения у меня регистрационной справки. В дальнейшем прошу вас обо всех мероприятиях, проводимых вами, предварительно извещать меня и даже согласовывать.
– А зачем это нужно, разве недостаточно того, что я сам это буду проводить?
Но уполномоченный вновь категорично потребовал, чтобы все перемещения, увольнения и вызовы из других епархий предварительно согласовывались с ним. Особенно раздражало уполномоченного отношение архиепископа к священникам‐исповедникам. В своем информационном докладе Совету по делам Русской Православной Церкви он писал 2 апреля 1948 года: «Из одиннадцати священников, посвященных в сан после 1945 года, десять посвящены архиепископом Лукой. Двадцать священников подвергалось в свое время репрессиям или были судимы.
Отношение архиепископа Луки к этой категории священников и к посвященным им лично более благожелательное: предоставляет им лучшие приходы, не подвергает их частым переброскам из одного прихода в другой. Особенно это заметно по отношению к подвергавшимся репрессиям, как “страдавшим за православную веру”».
Архиепископ Лука застал Церковь в Крыму в самом плачевном состоянии. До немецкой оккупации все православные храмы, кроме одного в Симферополе, были советской властью закрыты. Во время оккупации по инициативе местного населения были открыты восемьдесят две церкви, но после освобождения Крыма власти позволили зарегистрировать только семьдесят храмов. Во время управления Крымской епархией предшественника архиепископа Луки, епископа Иоасафа (Журманова), и при его непременной поддержке было закрыто восемнадцать храмов. В городе Симферополе после ухода немцев «имелось семь действующих церквей и молитвенных домов. Епископ нашел, что для Симферополя семь церквей много и своим распоряжением две церкви объединил с другими близлежащими церквями... В городе Ялте имелось три действующих церкви, которые расположены одна от другой на близком расстоянии. На все три церкви имелся один священник. Епископ нашел, что для Ялты иметь три действующих церкви много, все их он объединил в один приход с оставлением одной действующей церкви». Епископ Иоасаф счел, что приходы слишком свободно обращаются с денежными средствами и ввел должность епархиального ревизора, обратившись к уполномоченному с просьбой: «не сможет ли последний порекомендовать ему кого‐либо из мирян на должность епархиального ревизора». Власти определили на это место своего человека, и таким образом и хозяйственная деятельность храмов была поставлена под контроль.
Еще в худшем состоянии было в Крыму положение с духовенством. Почти все исповедники и ревностные пастыри претерпели мученическую кончину в 1930‐е годы, большая часть крымского духовенства при епископе Иоасафе состояла из бывших когда‐то отступниками и предателями Церкви и людей, имеющих канонические нарушения. Перед вступлением епископа Иоасафа в управление епархией в Крыму было три обновленческих прихода, два обновленческих священника явились к епископу и просили принять их в каноническое общение с Церковью, оба были приняты и оставлены настоятелями храмов; третий священник‐обновленец заявил, что «“никакой власти духовной над собой не признает, а признает только власть советов”... был вызван епископом и после разъяснения... был принят... с оставлением настоятелем того же храма».
Впоследствии многих из них архиепископ Лука запретил в священнослужении, а некоторых лишил сана. Один из таких священников снял с себя сан еще в 1922 году, был «начальником пожарной охраны промышленных предприятий в Симферополе и участвовал в разборе кафедрального собора». После смерти жены он вновь женился, а когда Крым был оккупирован немцами, стал служить священником и продолжал служить при епископе Иоасафе. Архиепископ Лука вызвал его и, упрекнув в отступничестве, лишил сана священника за двоеженство, и тот пошел жаловаться на архиепископа Крымскому уполномоченному, заявив ему, что «он решил повести против Луки решительную борьбу, и если возможно, то и через печать», а Белышев, узнав об этом и памятуя свое прошлое следователя, заметил на слова владыки об отступничестве: «Вредный Лука!»
Управляя Крымской епархией, владыка попытался упорядочить ее религиозную жизнь. Указав некоторым священникам на недопустимость небрежного отношения к своим пастырским обязанностям и зазорного, соблазнительного поведения, он призвал благочинных и настоятелей храмов «выявлять желающих быть священниками из числа ревностных и религиозно‐настроенных мирян». Он распорядился «не допускать пострижение волос и бороды священнослужителям», дабы через внешний облик не иметь соблазна устыдиться высокого звания пастыря.
К этому времени осуществление Таинства Исповеди было во многих приходах разрушено обновленцами, ленивцами и сребролюбцами. И святитель указал, что нельзя к исповеди относиться формально, он запретил проведение общей исповеди и благословил руководствоваться правилами, составленными им на основе правил Константинопольского Патриарха Иоанна Постника; епитимийные правила архиепископа Луки были более мягкими, чем правила святых отцов и учителей Церкви, но более суровыми, чем снисходительные правила Иоанна Постника; они и «были даны благочинным для рассылки всем настоятелям церквей». Это была попытка святителя преодолеть малодушие пастырей, привыкших к самооправданию и снисходительности к своим грехам, и часто лицеприятных к пастве, замалчивавших перед нею серьезность вопросов спасения души, вечной жизни и смерти, попытка призвать духовенство и паству смотреть на жизнь не как на средство получения временных благ, а как на средство стяжания милости Божией, дарующей вечную жизнь. Правила эти определяли не допускать до святого причащения рукоблудников до полного оставления греха, а после оставления допускать к причащению через три года; мужеложников и скотоложников запрещать на десять лет; за блудодеяние – на пять лет; за прелюбодеяние – на семь лет; за кровосмешение – на пять лет; за снохачество или сожительство с тещей – на пять лет; за убийство намеренное – на восемь лет, за ненамеренное – на четыре года, за вытравление плода – на пять лет; мать заспавшую (задушившую) во время сна ребенка – на три года; бросившую своего новорожденного ребенка – как за убийство; вора, добровольно покаявшегося, – на один год, уличенного – на два года; за святотатство – на три года; за нарушение клятвы – на три года.
В 1947 году архиепископу пришлось уволить за штат трех священников за полной невозможностью исполнять ими священнические обязанности, шесть священников были лишены сана, один священник ушел служить в одно из советских учреждений, пять священников были отпущены владыкой в другие епархии. В том же году он рукоположил пятнадцать священников по своему выбору и сердцу, большей частью из людей имевших большой жизненный опыт.
Из шестидесяти двух священников и диаконов, служивших в Крымской епархии в 1948 году, тринадцать человек ранее отбывали заключение в лагерях.
25 сентября 1948 года безбожные власти под предлогом слияния приходов решили закрыть в Крыму ряд церквей, и уполномоченный потребовал, чтобы архиепископ немедленно явился к нему для обсуждения этого вопроса. Владыка сказал, что занят и явиться не может, но уполномоченный продолжал настаивать.
15 октября владыка пришел к уполномоченному вместе с секретарем, как со свидетелем, учитывая хорошо известное ему лукавство советских чиновников.
Предчувствия не обманули владыку. Уполномоченный сообщил, что Совет по делам Русской Православной Церкви решил соединить приходы церквей поселка Мичурино и села Грушевка Старо‐Крымского района и освободить для государственных нужд одно из церковных зданий, так как оно находится на территории научно‐исследовательского учреждения, которая является запретной.
– Прошу вас, Валентин Феликсович, – продолжал уполномоченный, – дать по своей линии указание о слиянии приходов, освобождении церковного здания в поселке Мичурино и передаче церковного имущества из последней в грушевскую церковь.
– С каких же это пор там стала запретная зона? – с возмущением спросил владыка. – Почему же ее до сих пор не было? Что же, начинаете закрывать церкви?! Ну что же, закрывайте, а я закрывать не буду и никаких указаний об этом давать не стану!
Архиепископ Лука потребовал от уполномоченного дать ему копию решения Совета. Но уполномоченный, выученный не оставлять документов о деятельности, которую можно было обжаловать в законном порядке, дать таковую отказался, заявив, что вполне достаточно, что он, как официальное лицо, говорит об этом.
– Этого недостаточно, – сказал архиепископ Лука, – мне эти документы нужны, чтобы оправдаться перед Патриархом и, главным образом, перед народом верующим, что церкви закрываю не я лично, а Совет и его уполномоченный.
На это уполномоченный с наглой бессовестностью заявил, что церкви не закрывались и не закрываются. А с церковью в поселке Мичурино особое положение.
– Как не закрывались?! – воскликнул владыка. – А Владимирскую церковь в Симферополе закрыли!
– Владимирская церковь не закрывалась, – продолжал нагло лгать уполномоченный, – а предложено было приходской общине освободить помещение, как бывший клуб, а вместо него рекомендовано найти другое помещение.
– Приходская община Владимирской церкви, – непреклонно и твердо заявил владыка в ответ, – находила для покупки три дома, была уже договоренность в цене, и владельцы домов с радостью их продавали, но затем, когда им приносили деньги, они со смущением заявляли, что передумали продавать и продавать не будут. Не иначе, как их куда‐то вызывали и запретили им продавать дома для церкви.
– Мне об этом ничего не известно, – лгал уполномоченный.
– Я не сомневаюсь, что все это проделывается помимо вас, но я твердо уверен, что это происходило именно так; у меня нет подтверждающих фактов, а если бы были таковые, то я бы о них сообщил Патриарху... Я не хочу, чтобы среди верующих шли разговоры, как о моем предшественнике епископе Иоасафе, который много позакрывал церквей.
Завершая эту тему, архиепископ Лука заявил, что никаких указаний в отношении церкви в поселке Мичурино он давать не будет. На прощание архиепископ сказал уполномоченному:
– Если вы... будете со мной разговаривать начальственным тоном, то я вообще с вами разговаривать не буду и являться к вам также не буду. Я намного старше вас, в сане архиерея состою двадцать пять лет, являюсь большим ученым, лауреатом Сталинской премии, пользуюсь большим заслуженным уважением не только как ученый, но и как архиерей... и разговора с собою в начальственно‐повышенном тоне не потерплю ни от кого и требую к себе уважения.
По приезде архиепископа в Симферополь власти за отсутствием помещения для епархии поселили его в доме Жилищного управления; в одном с ним коридоре были еще два жильца, у одного из них жила девушка, которая до поздней ночи принимала молодых людей. Архиепископ Лука многократно просил власти предоставить этим жильцам комнаты в других помещениях, но те игнорировали его просьбы, и владыка вынужден был об этом написать Патриарху. «Странно то обстоятельство, – писал он, – что по вопросу о выселении сторонних жильцов имеются даже распоряжения Москвы из Министерства здравоохранения, не говоря уже о наличии неоднократных предписаний со стороны местного облисполкома Жилищному управлению, и все же жилищные условия архиерея остаются прежними.
Очевидно, в данном случае действует какая‐то серьезная посторонняя сила, которая налагает вето на предпринимаемые мероприятия.
Ко мне обращаются с настойчивыми просьбами принять участие в практической врачебной деятельности, но я отказываюсь впредь до улучшения моих бытовых условий».
Только через два года власти удовлетворили его просьбу, и то, как считал владыка, лишь благодаря его всемирной известности.
Прибыв в Крымскую епархию, владыка застал ее в развалинах не только физических, так как многие храмы были разрушены до и во время войны, но и изъязвленной нравственно; проникновение безбожия с помощью агентов так называемой госбезопасности было настолько глубоко и всеобъемлюще, что оно парализовывало любую созидательную церковную деятельность. Местные отделения КГБ устраивали в приходах бунты против архиепископа и его распоряжений, творили расколы, терроризировали верующих; их сотрудники отмечали всех ходивших в храмы и затем вызывали для индивидуальных бесед, состоявших в основном из запугиваний. И немудрено, что многие храмы в Крыму вскоре опустели. Иные священники совершали службу в абсолютно пустых храмах, им не раз приходила искусительная мысль оставить служение или проситься в другой, лучший приход. В селах руководители сельсоветов и колхозов в воскресные дни и в церковные праздники намеренно выгоняли людей на работу, а к тем, кто все же шел в храм, применяли репрессии, создававшие общее настроение безысходности, так как все сельское население тогда целиком находилось во власти местных безбожников. И нужно было иметь веру поистине апостольскую, чтобы преодолеть эти трудности.
В феврале 1948 года на собрании благочинных Крымской епархии архиепископ Лука «зачитал свой рапорт на имя Патриарха о том, что местные власти неправильно заставляют население работать в праздничные и воскресные дни, народ поэтому... не имеет возможности ходить в церковь... Патриарх должен вмешаться в это дело через центральные советские органы. На этом собрании архиепископ Лука сказал: “Я запросил всех благочинных о наличии на местах конкретных фактов противодействия церковному делу со стороны местных властей. Вот когда соберу эти факты, то поставлю вопрос перед Ждановым для принятия соответствующих мер. Посмотрим, как будет реагировать на это Жданов”».
Жалуясь на сложившееся в епархии положение, являвшееся следствием многолетних гонений, архиепископ Лука писал Патриарху Алексию: «По воскресеньям и даже праздничным дням храмы и молитвенные дома почти пустуют. Народ отвык от богослужений и кое‐как лишь сохраняется обрядоверие. О венчании браков, об отпевании умерших народ почти забыл. Очень много некрещеных детей. А между тем, по общему мнению священников, никак нельзя говорить о потере веры в народе. Причина отчуждения людей от Церкви, от богослужений и проповедей лежит в том, что верующие лишены возможности посещать богослужения, ибо в воскресные дни и даже в великие праздники в часы богослужений их принуждают исполнять колхозные работы или отвлекают от церкви приказом привести скот для ветеринарного осмотра, устройством так называемых “воскресников”... Это бедственное положение Церкви может быть изменено только решительными мероприятиями Центрального Правительства».
Духовенства в епархии не хватало, многие храмы оставались без богослужения, и власти, запрещая делать их приписными, закрывали их; чтобы этому воспрепятствовать, владыка временно назначал в эти храмы священников, а затем переводил их в другие, где также не было пастырей; там, где за отсутствием прихожан не было средств на содержание священника, владыка выделял деньги из епархиальных средств, делая все, чтобы не были закрываемы храмы, зная по опыту, насколько трудно будет их открывать, тем более что некоторые из них после закрытия могут быть и вовсе разрушены. В тех случаях, когда старосты храмов по наущению КГБ устраивали против архипастыря бунты, владыка не останавливался перед отлучением их от причастия.
Чтобы возбудить в верующих ревность о своем спасении, святитель обратился с распоряжением по епархии: «Объявить всем священникам, что христиане, малодушно объявившие себя в анкетах былого времени неверующими, должны считаться отступниками от Христа (Мф. 10, 33). Их запрещать в причастии на четыре года».
Но более всего он заботился о нравственной чистоте самих пастырей, не останавливаясь, в случае канонических нарушений и небрежения его распоряжениями, запретом в священнослужении и снятием сана.
«Отвык наш несчастный народ, – писал он в своем указе по епархии 16 февраля 1948 года, – ежедневно бывать в церкви, как было в старину. Забыли и священники свой долг быть всегдашними молитвенниками о народе. Никем не совершается память святых, которым положены службы на каждый день. Многие сельские священники прямо говорят мне, что им нечего делать целую неделю, от воскресенья до воскресенья.
Как нечего? Не их ли обязанность молиться всем святым, не их ли долг быть молитвенными предстателями Богу за народ? Что мешает священнику каждый день хотя бы вечерню прочитать про себя в церкви при одной горящей на престоле лампаде или даже у себя дома?..
Немало у нас церквей, которые стоят запертыми от воскресенья до воскресенья.
А разве не должны они открываться каждое утро при звоне в один колокол, зовущем верных хоть на несколько минут зайти в храм по дороге на работу или по мирским делам? Если будет знать верующий народ, что каждое утро открыт храм, что даже при невозможности ежедневно совершать Божественную литургию читаются в нем часы и служится обедница, то сила Божия упрочит благочестие, привлечет в храмы все больше людей, видящих, что священник каждый день молится о них».
«До моего сведения дошло, – писал владыка в своем распоряжении благочинным 11 марта 1948 года, – что некоторые священники продолжают назначать таксу, и притом высокую, за Таинства и требы.
Прошу отцов благочинных строго следить за проявлениями корыстолюбия священников, служащего нередко поводом к переходу православных в секты, и объявить, что уличенные в требовании определенной платы за требы будут запрещаться мною в священнослужении».
Сам владыка проповедовал не только в воскресные и праздничные дни, но и за всеми будничными богослужениями, и в конце концов власти стали принимать меры, чтобы заставить его замолчать.
28 октября 1948 года секретарь Крымского обкома ВКП(б) Соловьев направил письмо секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову. «В 1946 году в Крым на должность архиепископа Симферопольского и Крымского был прислан Лука... – писал он. – По приезде в Крым Лука развивает энергичную религиозную деятельность, сплачивая вокруг себя все реакционные элементы Крыма...
Лука выступает как открытый противник науки. В проповеди от 26.11.1947 года он говорил: “Люди науки, искусства – пустые люди, люди тщеславия, самомнения, эгоизма, величия внешнего. Они живут только ради себя”.
В своих проповедях Лука публично осмеивал материализм и материалистов, старался изобразить дело таким образом, как будто бы великие ученые Коперник, Пастер, Павлов – это люди не науки, а люди религии...
Обращаясь... к прихожанам, Лука говорит: “Вы скажете, правительство вам, христианам, нанесло вред. Ну что же, да, нанесло, а вспомните древние времена, когда ручьями лилась кровь христианская за нашу веру. Этим только и укреплялась христианская вера ...”
Нетрудно видеть ярко выраженный антисоветский клеветнический характер образа мыслей этого “проповедника”.
Во всех своих выступлениях Лука старается проводить... взгляд, что советский народ все тридцать лет страдает, еще не видно конца этим страданиям. Так, например, 9 ноября 1947 года в своей проповеди он говорил: “Если вы спросите меня, когда же прекратятся эти лишения и будет хорошая жизнь, то я скажу вам, что прошедшие тридцать лет – это сравнительно ничтожный срок и пройдет еще много десятков лет, прежде чем жизнь наша будет вполне нормальной”.
Мы со своей стороны считаем, что Лука в своей деятельности лишь прикрывается религией, а главная работа, которую он выполняет здесь по чьему‐то заказу, – это вести открытую антисоветскую пропаганду среди народа.
В силу особого положения Крыма как пограничной полосы, мы считаем необходимым через соответствующие органы удалить Луку из Крыма».
Власти рьяно принялись преследовать архиепископа, действуя через уполномоченных; те не могли запретить святителю проповедовать и действовали через сотрудников Патриархии и Патриарха, вынуждая их уговаривать архиепископа перестать проповедовать.
Уполномоченный доносил в Москву, что архиепископ «читает проповеди не только на евангельские темы, по толкованию так называемого Священного Писания, но и на разнообразные другие и даже философские темы, как “О науке и религии”, “Об истоках современного безбожия”, “О суетности славы человеческой”... Даже и проповеди на евангельские темы увязывает с современностью, как‐то: охаивание молодежи, что последняя стала распущенной, безбожной, ходит по театрам и кино, а церкви не посещает, не молится Богу...
После указа Синода от 25 августа 1948 года и определения Синода от 16 ноября 1948 года его проповеди стали носить больше церковный характер, но он все же продолжает их читать ежедневно…».
По поводу этих указов и о том, как обстоит дело проповеди, архиепископ Лука послал Патриарху Алексию отдельное письмо, высказывая свое несогласие с ограничением проповеди и просветительской деятельности Церкви. Между тем уполномоченный требовал от архиепископа, чтобы он не только свою проповедническую деятельность сократил, но и всех пастырей Крымской епархии, что явно шло в разрез с принципиальными воззрениями святителя.
23 марта 1949 года уполномоченный явился к тяжело болевшему в то время архиепископу и заявил, что священники ялтинского собора не выполняют указы Патриарха и Синода от 25 августа и 16 ноября 1948 года в отношении проповедей: священники могут говорить проповеди в воскресные и праздничные дни по толкованию и объяснению Евангелия, и их «проповеди должны носить чисто церковный характер. Но в ялтинском соборе проповеди произносятся ежедневно, да еще по два раза, во время утренней службы и вечерней.
Кроме того, священником Руденко два раза в неделю, по воскресеньям и четвергам, после вечерней службы проводятся беседы на “душеспасительные темы”, и эти беседы не являются ли преподаванием Закона Божия? О днях и часах бесед на входных дверях собора вывешено объявление.
В притворе при входе в собор на обеих стенах висят большие плакаты с рисунками, художественно оформленными, на библейскую тему “О земной жизни Иисуса Христа, Сына Божия, Спасителя мира”, под каждым рисунком имеется текст, составленный священником Руденко, – по сути дела, это наглядная религиозная пропаганда...».
Выслушав уполномоченного, владыка сказал, что «проповеди произносятся ежедневно, это хорошо, так и должно быть, так как он и сам их говорит ежедневно, – с указами Синода в отношении проповедей и непреподавания Закона Божия он не согласен, о чем и писал Патриарху, что главным‐то образом он и едет к Патриарху для беседы с ним по этим вопросам. Если священник Руденко проводит беседы на “душеспасительные темы” после службы – тоже неплохо, и эти беседы проводились испокон веков: он и сам, еще будучи священником в Ташкенте, такие беседы проводил, ничего в этом нет плохого...».
Рассказав далее о своей проповеднической деятельности, о том, что им в Тамбове произнесено более двухсот проповедей, которые были записаны и впоследствии им исправлены, и что в этих проповедях ему приходилось говорить против материализма, владыка заключил: «Хотя это вам, коммунистам, и не нравится, но ничего поделать нельзя; вы, коммунисты, ведете антирелигиозную пропаганду, а я – религиозную. Выступал против материализма в своих проповедях – и буду выступать; говорю проповеди строго по Евангелию, а в Евангелии есть места против материализма. Многие проповедники в своих проповедях об этих острых местах умалчивают и их обходят, но я этого никогда не делал и делать не буду; я знаю, что за моими проповедями следят, и очень аккуратно, из МГБ и там в моих проповедях ничего не находят предосудительного. Но если они коммунистам не по душе, то тут ничего не поделаешь...»
28 марта 1949 года архиепископ Лука прибыл в Москву для беседы с Патриархом и митрополитом Николаем (Ярушевичем). Многолетнее общение с представителями советской власти, людьми исключительно беспринципными, привело к тому, что Патриарх при любом конфликте с властями послушно шел на то, чтобы снять с себя нарекания с их стороны за то или иное действие какого‐нибудь архиерея, вызвавшее их неудовольствие; оказывая давление на архиереев, он напоминал им о церковной дисциплине и обязательности подчинения первоиерарху.
Оказавшись в руках преступных хищников, правивших тогда страной, руководство Русской Православной Церкви, будучи поставлено под полный контроль властей, потеряло в то время возможность независимой деятельности. Все дела с Русской Церковью велись коммунистической властью через Совет по делам Русской Православной Церкви, руководство которого состояло из бывших следователей НКВД, принимавших участие в самых кровавых расправах со священнослужителями и верующими в разгар гонений 1937–1938 годов, в личной практике которых было пыточное следствие, а на совести – смертные приговоры, включая убийство Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Петра (Полянского), бесчисленного числа архиереев, священнослужителей, монашествующих и простых мирян, и массовые убийства граждан России.
8 марта 1949 года Патриарх был принят председателем Совета по делам Русской Православной Церкви генералом МГБ Карповым, который, в частности, поставил Патриарху на вид проповедническую деятельность архиепископа Крымского Луки. После этого выговора Патриарх сказал митрополиту Крутицкому Николаю (Ярушевичу): «Очень прискорбно, что... есть новые пятна на Церкви: недопустимое проповедничество архиепископа Луки с антисоветским уклоном, недопустимое поведение Кировоградского епископа Феодосия по возбуждающему верующих выступлению за открытие храма и с его игнорированием моих распоряжений о запрещении летних разъездов по епархии, – все это вместе взятое может произвести впечатление общей нашей расхлябанности и неумения ценить благожелательные отношения Правительства к Церкви».
После встречи с Карповым Патриарх «взялся за составление обращения к архиереям с новыми требованиями: не допускать в своих действиях ничего, выходящего за рамки деятельности, указанные законом и распоряжениями Патриархии». Посему, когда архиепископ Лука прибыл в Москву в надежде убедить Патриарха в правильности своих действий и отсутствии в них какого‐либо преступления с точки зрения церковной, Патриарх уже был настроен весьма решительно в стремлении добиться от архиепископа отказа от проповеднической деятельности.
В первые дни своего пребывания в Москве архиепископ Лука несколько раз беседовал с митрополитом Николаем, готовившем его к тому, что ему придется отказаться от проповедей, а затем был принят Патриархом, который потребовал от него, чтобы он прекратил ежедневные проповеди, что привело душу святителя в состояние смятения: владыка видел свое призвание в просвещении паствы с помощью проповеди, и потому ему было нелегко согласиться с требованием безбожников, прозвучавшим из уст Патриарха.
Сотрудникам Патриархии владыка рассказывал тогда о своей проповеднической деятельности: «Слушают затаив дыхание. Сколько подростков окружают меня! Сколько комсомольцев и комсомолок причащаются! Сколько интеллигенции приходит послушать меня! Я объясняю Евангелие и Апостольские послания. В них есть немало того, что неприятно неверующим, – но я ничего не пропускаю из слова Божия и считаю, что я должен говорить не только приятное, но и неприятное, чтобы заставить людей задуматься над тем, куда они идут. Я, например, говорю об идеализме и материализме. Конечно, я характеризую материализм с надлежащей стороны, как ни горько это слушать атеистам... Я знаю, что моя церковная карьера кончилась, что не дадут согласия на мой перевод на лучшую кафедру, так как понимают, что я умею возбудить весь город. Но я не ищу церковной карьеры, как перестал искать карьеры и медицинской. Мне немного остается жить. Медициной я не занимаюсь, потому и хочу каждый день своей жизни отдавать на служение Богу и делу проповеди о Нем. Для меня теперь вся жизнь – в массах, стоящих передо мной и жадно вбирающих в себя мои слова... Конечно, я учту замечания, сделанные Патриархом Алексием и митрополитом Николаем. Я буду сглаживать острые углы в своих выступлениях, но своих убеждений я не могу скрывать».
В течение нескольких дней с архиепископом Лукой беседовали послушные распоряжениям Карпова управляющий делами Московской Патриархии митрополит Николай (Ярушевич), протопресвитер Николай Колчицкий и секретарь Патриарха Лев Парийский, которые, подобно ложным друзьям многострадального Иова, убеждали владыку беспрекословно подчиниться требованиям Патриарха. И в конце концов владыка скрепя сердце согласился и сказал митрополиту Николаю: «После разговора с Патриархом, с вами, с Колчицким, с Парийским я хорошо понял, что не должен допускать в своих проповедях ничего не только неприятного для неверующих и гражданской власти, но и никаких двусмысленностей, какие могли бы быть истолкованы как намеки на современную идеологию и современную действительность. Но я болезненно переживал несколько дней предложение Патриарха Алексия о том, чтобы прекратить ежедневную проповедь. Как я лишу себя этой радости, если на мою проповедь съезжаются люди со всех концов Крыма и даже из других городов? Люди бросают часы службы и вырываются под разными предлогами из симферопольских учреждений, чтобы только послушать меня. Но я – монах, я должен подчиниться Патриарху. Но что я скажу верующим о причине отмены ежедневных проповедей? Сказать правду, что это мне запрещено Патриархом, – я не могу. Сказать ложь, что я заболел, – тоже не могу. Но теперь, к концу своего пребывания в Москве я успокоился. Меня надоумил Парийский заняться переработкой напечатанных на машинке моих проповедей... И я скажу верующим, что я занят составлением сборника и потому стал говорить редко... Конечно, лучше бы мне быть переведенным в другой город, где я сразу начал бы говорить только по воскресеньям. Ну, буду делать так и в Симферополе, ничего не поделаешь. Патриарх сказал, что я своими выступлениями могу нанести вред всей Церкви, наложив на нее пятно... Надо подчиняться Патриарху».
Генерал МГБ и председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Карпов был доволен результатами своей разрушительной деятельности и 8 апреля 1949 года докладывал по этому поводу Сталину: «Архиепископ Лука, дав заверения Патриарху, что он проповеди будет читать только по воскресеньям и праздничным дням, ограничиваясь толкованием “Священного Писания”, 4 апреля вылетел в Симферополь. Насколько искренне заявление архиепископа Луки Совет проверять не имеет возможности, так как не располагает надлежащими источниками информации...* Тем не менее Совет считает, что, несмотря на такое заявление, архиепископ Лука продолжает оставаться реакционером, которого в благоприятный момент при наличии надлежащего повода необходимо подвергнуть изоляции».
После беседы с Патриархом и все новых требований Крымского уполномоченного, стремящегося руками архиерея ограничить свободу Церкви, владыка в своих распоряжениях стал писать, что это всё требования уполномоченного.
Потребовал уполномоченный, чтобы не привлекались к участию в богослужении подростки, – архиепископ издал распоряжение: «Уполномоченный Совета по делам Православной Церкви Я. И. Жданов требует, чтобы в алтаре прислуживали только мальчики от четырнадцати до восемнадцати лет и притом с письменного согласия родителей».
Заявил уполномоченный в устной беседе с архиепископом, что крещение детей должно производиться только с согласия родителей, а иначе священник будет привлечен к судебной ответственности, – владыка, возразив ему, что он с этим совершенно не согласен, направил настоятелям церквей распоряжение:
«Уполномоченный по делам Православной Церкви по Крыму требует, чтобы священники крестили детей не иначе, как с устного или письменного разрешения родителей. Предупреждает, что за крещение ребенка партийных родителей без такого разрешения священник будет подлежать судебной ответственности».
Сказал уполномоченный, что похоронные процессии недопустимы, – владыка так и огласил: «Уполномоченный по делам Православной Церкви по Крыму запрещает священнику провожать покойника на кладбище в облачении, с хоругвями и пением».
Проявил уполномоченный интерес к состоянию здоровья женщин, выпекающих просфоры, владыка отдал распоряжение: «Уполномоченный Совета по делам Православной Церкви Крымской области требует, чтобы все лица, непосредственно занятые на выпечке просфор в церкви, в обязательном порядке прошли медицинский осмотр».
А поскольку всё это были распоряжения не епархиального архиерея, а уполномоченного, то каждый священник мог сам решать – выполнять или не выполнять их в соответствии со своей священнической совестью.
При таком развороте событий владыка почти перестал посещать уполномоченного, предпочитая вести с ним отношения через жалобы Патриарху.
23 августа 1949 года архиепископ Лука встретился с Крымским уполномоченным. Положение Церкви в Крыму все ухудшалось: всех, кого ни приглашал архиепископ для служения в епархии, не допускало к служению МГБ, пропуская лишь тех, кто готов был с ним в той или иной мере сотрудничать; храмы закрывались, священники, которые уже отбыли наказание по десять лет, снова были арестованы и по старому, десятилетней давности обвинению осуждены на новые сроки. «При епископе Иоасафе в Крыму было более шестидесяти церквей; когда я прибыл в Крым, принял пятьдесят восемь церквей, а сейчас их осталась пятьдесят одна, а через пару лет, видимо, останется сорок или еще меньше... – заявил архиепископ Лука уполномоченному. – Вы – коммунисты и ведете к тому, чтобы церкви и религиозность среди населения свести на нет, а новых церквей не разрешаете открывать, хотя население их желает иметь».
Настоятель сельского храма спросил однажды владыку: можно ли проводить крестные ходы; архиепископ Лука, памятуя беседы уполномоченного и злую настойчивость последнего в преследовании Церкви, разослал послание всем священникам Крымской епархии, в котором писал: «Крестные ходы вокруг храма, кроме только первого дня Пасхи, запрещены не архиереем, а уполномоченным, и это запрещение должно соблюдаться...
Общие обеды в храмовые праздники запрещаются уполномоченным под открытым небом в ограде храма и разрешаются только в закрытых помещениях.
Все изложенное в настоящем послании должно быть оглашено прихожанам с амвона».
Текст послания был доведен до Патриарха, который, действуя в русле занятой им позиции, заметил, что считает это послание неправильным. В своем объяснении по этому поводу архиепископ Лука сообщил, что «сделал он это по устному требованию уполномоченного Совета, но, считая недопустимым, чтобы недовольство, вызванное этим распоряжением, легко на плечи архиерея, сослался на уполномоченного Совета».
Узнав об этом, Белышев зло написал: «Неправильно, вредно и подозрительно».
В Крыму Господь прославил святителя не только как исповедника, но как чудотворца и благотворителя в это скудное материальными достатками послевоенное время. Святитель старался помогать всем. Обед на его кухне готовился на пятнадцать‐двадцать человек. Этот обед был самый простой, зачастую состоявший из одной похлебки, но в ту пору у многих симферопольцев не было и этого. «На обед приходило много голодных детей, одиноких старых женщин, бедняков, лишенных средств к существованию, – вспоминала племянница архиепископа. – Я каждый день варила большой котел, и его выгребали до дна. Вечером дядя спрашивал: “Сколько сегодня было за столом? Ты всех накормила? Всем хватило?”».
Сам владыка питался и одевался очень просто и зачастую ходил в чиненых рясах. Всякий раз, когда племянница предлагала ему сшить новую одежду, он говорил: «Латай, латай, Вера, бедных много». В епархии по распоряжению владыки велись длинные списки нуждающихся. В конце каждого месяца по этим спискам рассылалось тридцать‐сорок почтовых переводов.
В 1951 году архиепископ Лука отправился в Одессу, где Патриарх в то время отдыхал на даче. Воспитательница детей владыки писала его дочери, невольно свидетельствуя, что материальная скудость святителя являлась славою Церкви: «К сожалению, папа опять одет очень плохо: парусиновая старая ряса и очень старый, из дешевой материи подрясник. И то и другое пришлось стирать для поездки к Патриарху. Здесь все высшее духовенство прекрасно одето: дорогие красивые рясы и подрясники прекрасно сшиты, а папа... хуже всех, просто обидно...»
Кроме богослужебной деятельности, владыка принимал у себя дома больных. На двери его кабинета висело объявление, что он ведет бесплатный прием ежедневно, кроме праздничных и предпраздничных дней; к нему стекалось много больных, но он никому не отказывал, и часто в исцелении больных через архиерея‐врача действовал Сам Господь.
В 1948 году к нему обратилась женщина, у которой от простуды заболело горло, врачи долго и усердно лечили ее, но болезнь не только не отступала, но еще более усиливалась, так что от боли в горле она уже ничего не могла есть и пила только воду. Собравшиеся на консилиум врачи сообщили ей, что помочь ей они уже ничем не могут. И тогда верующие родители повели ее к архиепископу. Владыка осмотрел больную и сказал, что если бы она не обратилась к нему, исход ее болезни был бы самым плачевным, а затем помолился, перекрестил ее и сказал: «Теперь ты будешь здорова. Сними с горла повязки, понемногу ешь все, больше кислую и соленую пищу. А перед едой и после еды полощи горло раствором – на стакан воды чайная ложка соли и две‐три капли йода». Выйдя от архиепископа, больная почувствовала бодрость и на второй день уже забыла, что у нее болело горло.
У одних родителей случилось несчастье – их четырехлетний сын, играя, сломал руку в запястье. Врачи наложили гипс, но когда сняли, выяснилось, что рука срослась неправильно, и врачи предложили вновь ломать руку, чтобы исправить искривление. Родители обратились к архиепископу. Тот внимательно осмотрел руку мальчика и сказал: «Ломать не надо. Мальчик растет, и кости его растут, все рассосется, и косточки выровняются, – Господь поможет». Так и произошло. Родители мальчика хотели дать архиепископу‐врачу в качестве вознаграждения деньги, но владыка отказался, сказав, чтобы они жертвовали, сколько могут, на Церковь и на бедных и дал им адреса нуждающихся семей.
У одной женщины заболела трехлетняя дочь – у ребенка стал болеть глаз; женщина обратилась к врачу, та лечила девочку около месяца, но улучшения не последовало. После полугодового лечения в больнице выяснилось, что у девочки растет бельмо. Женщина в отчаянии обратилась к архиепископу Луке. Он внимательно осмотрел больную девочку и написал письмо к глазному хирургу в госпиталь инвалидов войны в Симферополе, прося сделать девочке операцию, подробно описал болезнь, сделал рисунок глаза, дал рекомендации по подготовке к операции и указал режим питания, какого следовало держаться после операции, и через своих близких передал в госпиталь все необходимое для питания девочки. Когда мать после операции снова привела девочку к святителю Луке, он сказал: «Слава Богу, все хорошо. Молитесь, и я помолюсь, и Господь поможет нам».
Некий человек, будучи безнадежно больным, обратился к архиепископу, чтобы тот присутствовал, когда ему будут делать операцию.
Святитель спросил его:
– Веришь ли ты в Бога?
– Верю, Владыка, но в церковь не хожу, – ответил тот.
– Молись, благословляю тебя и отстраняю от операции. Пятнадцать лет ты не будешь иметь никакой болезни.
Операцию делать не стали, и все произошло по слову святителя.
Заболела пожилая женщина: после каждого приема пищи у нее начинались настолько сильные боли, что она кричала, и ей приходилось долго лежать, пока они не утихнут. Врачи после тщательного обследования, постановили, что нужна операция. Тогда родственники больной обратились к святителю Луке. Тот осмотрел больную, помолился, дал ей лекарство, и болезнь прошла без следа.
Святитель Лука, щедро оказывая врачебную помощь всем нуждающимся, особенно заботился о клириках своей епархии и их семьях. Собрав однажды священников, он сказал им: «Если вы или члены ваших семей заболеют, в первую очередь обращайтесь ко мне».
У священника Леонида Дунаева заболела супруга, и он обратился к владыке. Тот сказал ему: «Не смейте давать ей лекарство».
На следующий день, справившись о здоровье супруги священника, он снова повторил свой запрет давать лекарство; на третий день после литургии отец Леонид пригласил владыку посетить его больную супругу. Архиепископа провели в комнату больной.
Та лежала прикованная недугом к постели, не принимая никакой пищи.
– Ваш отец Леонид непослушный. Я ему сказал, чтобы он не давал вам лекарства.
– Нет, Владыка, он не давал мне лекарств.
– Тогда вот вам лекарство: во имя Отца и Сына и Святаго Духа! – и с этими словами он широким крестом благословил больную.
Владыка уехал, а матушка отца Леонида поднялась с постели, стала принимать пищу, и здоровье ее пошло на поправку.
Однажды заболела супруга секретаря епархии; врачи, приехавшие на скорой помощи, не нашли ничего серьезного. Выслушав секретаря, владыка заволновался, потребовал машину и сразу поехал к больной. Она встретила его в большом смущении:
– Спаси вас Господи, Владыка, но труды ваши напрасны: приступ прошел, и я чувствую себя хорошо.
Внимательно осмотрев больную, святитель позвал ее мужа и сказал, что если в течение двух часов его супруге не будет сделана операция, то она умрет. Больную срочно отвезли в больницу, но врачи, внимательно осмотрев ее, пришли к выводу, что операция не нужна; однако она верила больше слову святителя и стала просить, чтобы ей все же была сделана операция. Врачи стали оперировать, и когда вскрыли брюшную полость, то к величайшему своему удивлению обнаружили огромный гнойник, готовый вот‐вот разорваться, – и таким образом жизнь больной была спасена.
У одного из священников случился приступ, и врачи сказали ему, что нужна операция. Помня, что владыка приглашал в случае болезни обращаться к нему, священник посоветовался относительно своей болезни с владыкой, и тот сказал ему: если он согласится на эту операцию, нужно потом сделать еще две и исход этих операций может быть плохой, и добавил, что ему придется перенести еще два приступа. Положившись на волю Божию, священник поступил по слову святителя, перенес эти два приступа и остался жив.
В 1956 году владыка полностью лишился зрения, и уже не мог непосредственно принимать и лечить больных, но, угодив Богу, молился за них, и Господь по его молитвам совершал чудеса.
У отроковицы Галины была саркома головного мозга, и владыка сказал ее матери: «Я буду за нее молиться».
В будний день владыка служил Божественную литургию и, стоя на коленях, усердно молился за отроковицу Галину. Господь услышал его молитвы, и девочка выздоровела.
Раба Божия Анна, по благословению святителя учившаяся на курсах псаломщиков и ставшая потом регентом в кафедральном соборе, попала в автокатастрофу, и врачи, чтобы спасти ее жизнь, ввели повышенную дозу противогангренной и противостолбнячной сыворотки, и у нее начался токсикоз. Во время обхода врач, осмотрев ее, отменил все лекарства, и мало‐помалу она стала поправляться. Выписавшись из больницы, она пришла к владыке.
– Ну, расскажи, Аня, как тебя лечили?
– Владыка святый, вашими молитвами я выздоровела, потому что врачи отказались лечить.
– День и ночь молил я Бога о твоем выздоровлении. Но запомни, запомни, в этих случаях выздоровление редчайшее.
С трепетом и благоговением относился владыка к церковным Таинствам. 24 ноября 1954 года он направил всем священнослужителям Крымской епархии слезное увещание.
«Страшную власть над душами человеческими, почти равную власти Божественной, дал нам Христос Бог, – писал он. – Не обязаны ли мы поэтому с трепетным вниманием и страхом относиться к этой данной нам изумительной власти? Не должен ли каждый духовник доподлинно и точно узнать грехи кающегося? Ибо как можно решить или вязать те грехи, которые неизвестны духовнику? Как можно довольствоваться пустым бормотанием исповедующегося: “Грешен, батюшка, грешен, во всем грешен”?
Не подтвердит суд Божий того пустого отпущения грехов, которое даст нерадивый и смертно согрешающий священник.
Убоимся же, братия мои, такого страшного суда Божьего и проклятия, возвещенного пророком Иеремией, над творящими дело Господне с небрежением и не будем жалеть труда и времени на благоговейное исполнение Таинства Покаяния. Будем помнить о том, что среди тех ханжей, которых немало между говеющими, есть немало и таких, которые с трепетом и глубоким волнением идут на исповедь, ожидая от духовника исцеления их душевных ран.
О, как благодарны они священнику, с глубоким вниманием слушающему их, и с какой глубокой обидой уходят от холодного и равнодушного священника‐
ремесленника, один из которых, как мне известно, сказал плачущей женщине: “Иди, иди! Надоели мне ваши грехи”.
Да помнят нерадивые духовники, что и среди людей сознательно и глубоко верующих есть такие, которые читали страшные слова пророка Иеремии: “Проклят всяк творяй дело Божие с небрежением” (Иер. 48, 10)».
«Да будет тверда ваша ревность о правде Божией, о канонах и постановлениях Церкви.
До сведения моего дошло, что восприемниками при крещении младенцев часто бывают люди, не знающие никаких молитв и даже не умеющие сотворить крестного знамения, женщины, имеющие некрещеных детей, и люди, не знающие даже, были ли они крещены.
Крещение младенцев совершается в Православной Церкви по вере их родителей и восприемников, на обязанности которых лежит обучение детей Закону Божьему, молитвам и благочестию. Этого, конечно, не могут исполнить восприемники, сами не знающие даже простейших молитв, не умеющие креститься и во время Таинства Крещения смеющиеся над произносимыми священниками заклинаниями сатаны.
Таким образом, роль восприемников при крещении становится пустой формальностью.
Крестить младенцев с такими восприемниками я строго запрещаю.
Восприемниками могут быть только подлинные христиане, знающие Закон Божий и молитвы...»
Но особенно святитель ревновал о проповеди слова Божия. «Прежде всего проповедуйте, а потом крестите, – писал он пастырям. – Но не крестите только, не проповедуя. Не ограничивайте задач служения вашего только исполнением треб и богослужениями. Были святые, которые точно исполняли завет Христов и проповедовали Евангелие всей твари.
А вы, сопастыри мои, все ли проповедуете даже людям Божиим, истаивающим от самого страшного голода – не глада хлеба и воды, а глада слышания слова Божия (Ам. 8, 11)?
Народ наш почти тридцать лет не слышал слова Божия и жаждет его – а пастыри, очень многие пастыри и теперь, когда свободна проповедь Евангелия, молчат и считают себя вполне исправными, если удовлетворительно совершают богослужения и требы, не пьянствуют и не курят...
Когда я говорю с вами об этом, то чаще всего слышу ответ: “У нас нет пособий к проповеди”. Не стыдно ли так отвечать? Разве проповедь состоит в повторении чужих проповедей? Разве не слышали вы от святого апостола Павла: “И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы” (1 Кор. 2, 4)?
Так что же? Значит, нет в вас ни духа, ни силы, если не хотите проповедовать, не имея сборников чужих проповедей, не имеете своих мыслей о Боге, а ищете чужих?
...Священное Писание дает неисчерпаемое количество тем для проповедей... Зачем же вам сборники чужих проповедей, если сама Библия есть неисчерпаемое руководство для проповедей?
...Поставим же... задачей жизни своей стяжать дух Христов и силу Его. Для этого нужно следовать всем заповедям Его, усердно и неустанно молиться и поститься и всей душой прилежать чтению Библии.
Тогда отверзутся уста наши, и спасительная проповедь – вода живая слова Божия, польется неистощимым потоком из уст наших. Благодать Святого Духа да поспешествует вам в святом деле!»
В июле 1954 года, после постановления ЦК КПСС «об улучшении научно‐теистической пропаганды», гонения на Русскую Православную Церковь усилились: храмы закрывались один за другим. КГБ стал преследовать тех, кто переписывался с архиепископом Лукой; за самим архиепископом была усилена слежка, все его телефонные разговоры прослушивались. В некоторых храмах уполномоченные через верных им священников и старост устраивали бунты против архиепископа.
Владыка писал по этому поводу сыну: «Церковные дела становятся все тяжелее и тяжелее. Закрываются церкви одна за другой. Священников не хватает, и число их все уменьшается...» «Епархиальные дела становятся все тяжелее, по местам доходит до открытых бунтов против моей архиерейской власти. Трудно мне переносить их в мои восемьдесят два с половиной года. Но уповаю на Божью помощь, продолжаю нести тяжкое бремя...» «Церковные дела мучительны. Наш уполномоченный – злой враг Христовой Церкви – все больше и больше присваивает себе мои архиерейские права и вмешивается во внутрицерковные дела. Он вконец измучил меня». «Более двух месяцев пришлось мне воевать с исключительно дурным священником...»
На праздник Покрова Божией Матери владыка высказал в проповеди все наболевшее, стараясь утешить свою встревоженную гонениями паству. «Знаю я, что большинство из вас очень встревожены внезапным усилением антирелигиозной пропаганды... – сказал владыка. – Скажите, пожалуйста, помните ли вы слова Христовы из Евангелия от Луки: “Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство” (Лк. 12, 32)? О малом стаде Своем Господь наш Иисус Христос не раз говорил. Его малое стадо имело начало в Его апостолах святых. А потом оно все умножалось... Атеизм стал распространяться во всех странах... Но и везде и повсюду, несмотря на успех пропаганды атеизма, сохранилось малое стадо Христово, – сохраняется оно и доныне. Вы, вы, все вы, слушающие меня, – это малое стадо.
И знайте и верьте, что малое стадо Христово непобедимо, с ним ничего нельзя поделать, оно ничего не боится, потому что знает и всегда хранит великие слова Христовы: “Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее” [Мф. 16, 18]. Так что же, если врата адовы не одолеют Церкви Его, малое стадо Его, то чего нам смущаться, чего тревожиться, чего скорбеть?! Незачем, незачем! Малое стадо Христово, подлинное стадо Христово, неуязвимо ни для какой пропаганды».
Совет по делам Русской Православной Церкви стал рассматривать вопрос о замене Крымского уполномоченного Жданова, как не справившегося с работой, но в 1955 году он скончался, и на его место был назначен Яранцев, который Белышевым был вскоре расценен, как человек недалекий в понимании вопросов взаимоотношения Церкви и советского государства. Яранцев в 1957 году скончался, и на это место был назначен Гуськов.
В начале января 1958 года после рождественских праздников архиепископ Лука пригласил нового уполномоченного в епархию познакомиться. После того как секретарь владыки вышел и он остался с уполномоченным наедине, святитель сразу же определил перед уполномоченным свою позицию, рассказав о своей встрече в тюрьме с высокопоставленным сотрудником ОГПУ, который решил узнать, друг ли святитель советской власти или враг, на что он тогда прямо ответил: «Я не консерватор, я далек от этого, если бы я не был христианином, то был бы коммунистом...», – и, многозначительно помолчав, владыка добавил: «Вам хорошо известно, что советское правительство ведет антирелигиозную пропаганду, следовательно, я не могу быть целиком на вашей стороне, а поскольку вы являетесь гонителем христианства, я, совершенно понятно, никак не могу быть вашим другом, хотя и можем сосуществовать». И затем владыка внушительно произнес, что на этом разговор с сотрудником ОГПУ был окончен, и больше тот к этому вопросу не возвращался.
Таким образом, позиция с первых же минут была обозначена, он дал уполномоченному вполне отчетливо понять, что не стоит тратить время на то, чтобы склонять архиерея к сотрудничеству с врагами Церкви, и приступил к обсуждению вопроса о возвращении захваченного властями церковного дома.
23 января архиепископ, посетив уполномоченного, поставил перед ним ряд вопросов: о возвращении зданий храмов, о назначении священников, которых он хотел бы определить на то или иное место, и спросил, даст ли уполномоченный им справку о регистрации. Если уполномоченный обещал похлопотать, владыка благодарил его, если тот отвечал, что даст справку, если священника пропишут на новом месте, то владыка говорил, что конечно же не пропишут, так как знал, что пропиской ведает КГБ.
– Могу ли я самостоятельно, не согласовывая с вами, ранее зарегистрированных священников Крымской области, перемещать с одного прихода на другой? – спросил архиепископ.
– Назначение священников, их перемещение, лишение священного сана или наложение на них каких‐то других взысканий – дело архиепископа... Однако еще раз подтверждаю, что, на мой взгляд, не будет хуже для вас, если епархиальное управление по некоторым приходам и назначениям в них священников будет ставить меня в известность, памятуя о том, что к уполномоченному обращаются верующие со своими жалобами, предложениями, просьбами и заявлениями, которыми, может быть, иногда, в интересах епархиального управления, пренебрегать не следует. Если вы меня не будете ставить в известность о перемещении священников, то я окажусь в весьма затруднительном положении, мне значительно будет труднее следить за прохождением службы священников в приходах и контактировать с ними работу через наши советские органы на местах... Беседовали ли вы со священником Покровской церкви города Симферополя... относительно его проповеди, сказанной им... в праздник Введения во храм Богородицы, о чем я вас ставил в известность во время нашей прошлой встречи? – спросил владыку уполномоченный.
– Я его вызвал к себе. Проповедь им напечатана на машинке, я ее прослушал, и она мной одобрена. Крамольного там нет ничего. Мы всегда в своих проповедях обращаемся к верующим с призывом чаще водить детей в церковь и воспитывать их в религиозном духе. Это наш долг перед Богом и верующими, – ответил святитель и затем, несколько помолчав, прибавил: – Чтобы дать правильную оценку той или иной проповеди, надо иметь богословские знания.
– Это совершенно необязательно, – возразил уполномоченный. – В любой проповеди грамотный и политически подготовленный человек разобраться и определить что к чему сможет, хотя он и не будет иметь богословских знаний.
Владыка на это ничего не ответил, не стал ничего говорить и уполномоченный, сделав из слов архиепископа вывод, «что такого рода проповеди священники читают не от себя, а по заданию Луки...».
Прощаясь с уполномоченным, владыка сказал:
– Со всеми уполномоченными я находил общий язык, надеюсь, и с вами у нас будут самые лучшие отношения и взаимопонимание.
– Все зависящее от меня в смысле взаимоотношений в плодотворной работе епархии я постараюсь сделать, в этом вы можете не сомневаться, – заверил уполномоченный.
13 февраля 1958 года заместитель председателя Совета по делам Русской Православной Церкви Чередняк, сменивший в январе 1958 года Белышева, рассеивая все сомнения уполномоченного относительно права архиерея на назначение священников в некоторые храмы, отписал ему: «По вопросу подбора священников в ялтинский собор и в другие церкви, которые чаще всего посещаются иностранцами, Вам необходимо связаться с областным управлением КГБ и добиваться через Луку назначения туда тех священников, которые будут рекомендованы органами».
Уполномоченный, в соответствии с рекомендациями своего начальства, попытался войти в более тесные отношения с духовенством епархии – как для получения информации, так и для проведения через священников той или иной интриги, ведущей к разрушению Церкви.
С теми, кто не шел на откровенное сотрудничество, проводились беседы. «Особенно с активными священниками... – писал уполномоченный в отчете, – пришлось побеседовать по вопросу... вовлечения ими школьников в церковь, и особенно иподьяконами... В беседе с этими священниками пришлось затронуть вопрос о лояльном отношении с их стороны к родителям учащихся и школе. Разъяснить им, что школа ведет и обязана вести в соответствии с программой коммунистическое воспитание учащихся, и следует ли им, как священнослужителям, раздваивать душу ребенка или подростка? После окончания школы пусть юноши сами определяют свое отношение к религии».
Уполномоченный прямо писал о необходимом достижении им цели – «закрытия... церквей, добиваясь того, как выражался в свое время А. М. Горький, чтобы они умерли на корню».
Совет по делам Русской Православной Церкви был доволен действиями нового уполномоченного, сделав ему лишь некоторые замечания.
На заседании Совета по делам Русской Православной Церкви в Москве, обсуждавшего деятельность Крымского уполномоченного, было отмечено, что он «улучшил свою работу по наблюдению за деятельностью религиозных общин и духовенства. Проведены некоторые мероприятия по ограничению деятельности Церкви... Особое внимание со стороны уполномоченного было обращено на изучение приходов, приходящих в упадок. В результате в текущем году было снято с регистрации шесть церквей и молитвенных домов... из состава работающего духовенства выбыло по различным причинам четырнадцать человек. Посвящен за этот период в духовный сан священника всего лишь один диакон. Таким образом, количество... духовенства в церквях Крымской области сокращается...». Совет обязал его «к 1 октября 1959 года разработать конкретные мероприятия по сдерживанию и ограничению активности Церкви… С целью улучшения наблюдения и изучения деятельности религиозных общин чаще выезжать на места, выявлять общины, идущие к упадку, и информировать об этом местные партийные и советские органы для проведения соответствующих мероприятий, способствующих самоликвидации таких общин...».
Начались массовые вызовы членов церковных двадцаток и беседы с ними с угрозами посадить в тюрьму, если не напишут заявлений о своем выходе из двадцатки. Некоторые писали заявления, а когда не писали, то представители советской власти все равно говорили, что такие заявления написаны. Стали вызывать священников, требуя от них снятия сана. Один из священников, настоятель Успенской церкви в селе Чистенькая, направил архиепископу полное трагизма письмо, в котором подробно описал гонения.
В 1958 году крымские безбожники во главе с местным уполномоченным по делам Церкви организовали послушных им людей подать жалобы на архиепископа руководителю государства, первому гонителю Церкви в то время Хрущеву и председателю Совета по делам Русской Православной Церкви Карпову. В этих жалобах, составленных под диктовку безбожников, было написано: «Мы, прихожане кафедрального собора и члены двадцатки, убедительно просим Советское Правительство, Священный Синод и Патриарха Московского и всея Руси Алексия в конце концов указать архиепископу Луке на его диктаторские беззаконные действия и отменить все его незаконные указы и распоряжения, дабы народ успокоился, избавившись от слепого, немощного, беспомощного, тщеславного, властолюбивого и попирателя всех демократических прав народа...»
Эти жалобы вылились в решение Совета по делам Русской Православной Церкви: архиепископа Луку «освободить от управления епархией и уволить за штат».
Время для Русской Православной Церкви становилось все более суровым, действия безбожников все более разнузданными, и в мае 1959 года архиепископ Лука написал Патриарху письмо.
«Не считая себя в праве непосредственно обращаться в Совет по делам Православной Церкви при Совете Министров, – писал он, – я вынужден написать Вашему Святейшеству о имеющихся разногласиях между мной и уполномоченным по Крымской области... по следующим вопросам: <...> закономерно ли со стороны сельсоветов и райсоветов требование представлять им список двадцатки, протоколы собраний двадцатки?..
Имеет ли сельсовет право требовать от священников, чтобы даже на неотложные напутствия и требы они выезжали не иначе, как с предварительного разрешения сельсовета?..
Правильно ли со стороны уполномоченного вызывать не подчинившегося этим требованиям священника и называть его действия “неподчинением советской власти”?..
Законно ли запугивать пенсионеров – членов двадцатки, лишением их пенсий в случае не выхода из двадцатки?..
Удобно ли уполномоченному, приезжая в село, вызывать членов двадцатки группами и предлагать им поскорее выписаться из двадцатки, чтобы не пришлось платить, ибо они отвечают “головой своей” и имуществом своим за неисполнение ремонтов и недостачу имущества в церкви?..
Закономерно ли ставить вопрос о закрытии молитвенного дома... на обсуждение по бригадам двух совхозов, при котором даже часть молодежи возражала против закрытия церкви “для матерей”?..
Когда после проведения подобных мероприятий несколько членов двадцатки, напуганных перспективой платежа и обеспокоенных самими вызовами в сельсовет, выписались из двадцатки, законно ли было со стороны уполномоченного считать двадцатку уже не существующей, а церковь – подлежащей поэтому закрытию и препятствовать пополнению двадцатки новыми людьми, подавшими письменные заявления о вступлении в двадцатку?..
Имела ли право врач... явившись рано утром в церковь, запретить священнику совершение богослужений, ссылаясь на эпидемию гриппа... где священник... ответил, что подчиняется только приказам архиепископа и уполномоченного, и дал врачу номер моего телефона? Я запросил облздравотдел и получил ответ, что ни в одной из церквей Крыма богослужение запрещено не было. Когда врач... запрещала священнику богослужение, в селе продолжали функционировать школа, клуб и кино...
Имел ли право уполномоченный, вызвав священника... утверждать, что он обязан был подчиниться требованию врача, ибо “врачу и министры подчиняются”?..
Прав ли уполномоченный, называя неподчинение священника самочинным действиям врача “неподчинением советской власти”?..
Нет ли у уполномоченного... смешения двух различных понятий: неподчинение советской власти и неподчинение требованиям отдельных советских работников?..
Допускается ли положением уполномоченного по делам Православной Церкви в ответ на настойчивое убеждение настоятеля все‐таки разрешить увеличение молитвенного дома, угрожать ему тюрьмой и ссылкой, если он не оставит этой мысли?..
Имеет ли право уполномоченный брать на себя функции финансового инспектора, объезжать церкви епархии и требовать от настоятелей представления ему сведений о причтовых и церковных доходах, о числе крещений, браков, молебнов, панихид?..
Имеет ли право уполномоченный настаивать на предварительном согласовании с ним назначений псаломщиков и регентов из других епархий?..
Законно ли требование уполномоченного не проводить собрания двадцатки без извещения его о дне и часе собрания? По опыту нам известно, что это ведет к запрещению собрания, пополняющего состав двадцатки...
Допустимо ли вето уполномоченного на поручение епископа свободному священнику своей епархии на короткое время заместить заболевшего тяжелым гриппом священника?..»
Через три дня архиепископ Лука выслал дополнительное письмо Патриарху, приложив к нему рапорты священников.
«Через моего секретаря... уполномоченный по Крыму... поставил мне требование дать распоряжение по всем церквям епархии о созыве в возможно скором времени собраний двадцаток с тем, чтобы... каждая двадцатка из своей среды избрала бы двадцатку числом не более 22–23 человек, выделила из своей среды церковный совет и ревизионную комиссию...
Протоколы этих собраний со списками должны быть немедленно представлены уполномоченному на утверждение...
Выбранные в совет и ревизионную комиссию лица должны будут явиться к уполномоченному по его вызову для беседы и получения регистрации.
Считая требование уполномоченного... о проведении такого мероприятия незаконным, я отказался исполнить его.
В некоторых приходах Крыма членов двадцатки посещают на дому члены сельсовета или должностные лица (врач, учительница и т. п.) и требуют от них выхода из двадцатки, пугая пенсионеров отнятием пенсии, других – снятием с работы их самих или их детей и других членов семьи. Малодушные пугаются и уходят, но другие, возмущенные такой “работой” по подготовке церкви к закрытию, подают заявления о вступлении в двадцатку. Такие принимаются после голосования на собраниях двадцаток, которые становятся более многочисленными...
Спрашивается: какое вообще право имеет уполномоченный требовать “перевыборов” всех двадцаток епархии, перевыборов церковного совета и ревкомиссии во всех приходах?..
Кто дал ему право ограничивать число членов двадцатки, если в Положении об управлении Русской Православной Церкви сказано, что группа верующих, берущих в пользование храм, должна быть “не менее двадцати человек”, а максимум не определен...
Кто дал уполномоченному право устанавливать регистрацию членов церковного совета и ревкомиссии, когда по Положению об управлении приходами Православной Церкви регистрации подлежат только священник и диакон?..
Не обязанность ли уполномоченного поддержать требование о том, чтобы ключи от храма, переданные сельсовету отрекшимся от веры в Бога священником, были бы возвращены церковной двадцатке?.. После отречения священника... ключи от молитвенного дома находятся в руках сельсовета, а уполномоченный считает это правильным».
Секретарь архиепископа в дополнение к письму владыки писал Патриарху: «Ко мне, как к секретарю, для доклада архиепископу Луке духовенство обращается с жалобами на весьма дерзкое, грубое, с угрозами отношение к ним уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви... который часто не считается ни с возрастом, ни с положением священнослужителей.
Настоятель церкви города Алушты... вынужден был уйти из канцелярии уполномоченного... не выдержав его криков и угроз.
К священнику... бывшему настоятелю поселка Октябрьское, была применена самая тяжелая мера наказания – отнятие регистрации за то, что он отказался исполнить незаконное требование местных властей – заявлять каждый раз о своих выездах в села для исполнений пастырских обязанностей и не представил списка двадцатки и протоколов собраний церковного совета и двадцатки...
Настоятель села Чистенькая... и настоятель молитвенного дома города Алупки... имели большие неприятности с угрозами от уполномоченного... первый – за несогласие исполнить требование его не служить в церкви, предназначенной к закрытию, второй – за заботу о ремонте молитвенного дома...»
В 1959 году уполномоченный писал в своем отчете об антицерковной деятельности, осуществлявшейся им на протяжении 1958 года: «Архиепископ Лука, обеспокоенный снижением посещения церквей верующими и особенно молодежью и детьми школьного возраста, подготовил проповедь “Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы” и разослал ее всем церквям для зачтения. В этой проповеди Лука ропщет на то, что попущением Божьим много церквей закрыто, особенно в селах, а поэтому он рекомендует организовывать домашние церкви, где и воспитывать детей в христианском духе. Лука сетует и на то, что школа не учит Закону Божьему и заключает: “Так что же, неужели наши дети, христианские дети, обречены стать ничего не ведующими в Законе Божьем? О нет! Нет! – восклицает Лука, – да не будет этого великого горя!.. Так учите, учите детей своих, и тогда ваша семья станет домашней церковью, и свет Христов из этой домашней церкви будет распространяться, невидимо для вас, за пределы вашей семьи”.
Политика Луки совершенно ясна и понятна, в этой проповеди показал он и свое подлинное лицо как правящего архиепископа. По существу этой проповеди я беседовал со многими священниками... Беседовал по этому вопросу я и с Лукой. Он заявил, что ничего в ней крамольного нет... она... бьет прямо в цель без всяких обиняков».
29 ноября 1959 года состоялась в присутствии секретаря епархии очередная встреча архиепископа с уполномоченным.
– Вы, как уполномоченный, не являетесь помощником и защитником Церкви... Вы не только не помогаете храмам, а, наоборот, все делаете для их закрытия, – сказал святитель.
– Где это у нас в Крыму закрыты церкви?
– В Алупке, Найденовке, Грушевке, Партизанском, Садовом, – спокойно перечислил архиепископ.
Уполномоченный притворно возмутился и, пытаясь отвести обвинения, сказал:
– В этих населенных пунктах церкви не закрыты, а в них временно прекращена служба по вине настоятелей храмов, епархиального управления и лично вашей, не производивших ряд лет текущий ремонт, вследствие чего эти церкви находятся в аварийном состоянии. Следовательно, ни о каком закрытии церквей в нашей области и речи не идет. Никто из нас сейчас не может сказать, что у нас нет в Крыму церквей, находящихся в аварийном состоянии, а это не к лицу епархии и вам, как управляющему.
Прощаясь с уполномоченным, владыка сказал:
– Напрасно вы на меня обиделись, что я дал вам такую суровую оценку как уполномоченному. Я сказал это вам потому, что и я лично, и верующие видим в ваших действиях наступление на Русскую Православную Церковь.
Уполномоченный не прекратил своей разрушительной деятельности и в очередной раз потребовал от архиепископа сворачивания «благотворительности со стороны епархии... отдельных церквей... и особенно школьников. “Я рассматривал, и впредь буду рассматривать, – заявил уполномоченный святителю, – разовую благотворительность и разовую оплату детям за услуги в церкви как подачку, как подкуп...”».
Святитель продолжал помогать бедным приходам епархии, стремясь их оградить от закрытия.
Узнав об этом, уполномоченный «вторично потребовал прекращения Лукой оказания материальной помощи... как грубое нарушение советских законов... Сейчас принимаю все меры, – писал он Карпову, – к выявлению подачек со стороны Луки бедным и школьникам и... еще раз буду ставить вопрос перед Советом о переводе Луки в заштат».
«Немаловажное значение к ухудшению взаимоотношений с Лукой, – писал уполномоченный, – послужило и то, что за пять месяцев 1960 года в Крымской области снято с регистрации три церковных общины, с тремя церковными общинами расторгнуты договоры и предложено им подыскать соответствующие помещения для молитвенных целей. Закрыта, как аварийная, евпаторийская Ильинская церковь...
Все это вместе взятое вызвало бурную реакцию Луки, рассматривающего эти... действия как гонение на религию со стороны уполномоченного и местных органов власти...
Лука... заявил: “Уполномоченный Гуськов – злейший враг и ненавистник Церкви, и с ним решать церковные вопросы невозможно” и пришел к... выводу не только не прислушиваться к... требованию уполномоченного, но и стал поучать священнослужителей решать все вопросы жизни и деятельности церковной общины только с ним и через него... Например, решения облисполкома о закрытии евпаторийской Ильинской церкви, как аварийной, не выполнять, не подчиняться решениям облисполкома о расторжении договора с церковными общинами села Ново‐Александровка Симферопольского района, села Пшеничное Первомайского района и поселка Октябрьский Октябрьского района. Не стал последнее время соглашаться ни по одному вопросу, явно игнорируя меня, и потребовал также, чтобы не соглашались с моими рекомендациями и указаниями церковные общины и священнослужители.
Анализируя все это, я, посоветовавшись с работниками обкома и КГБ, 25 мая решил встретиться лично с архиепископом Лукой... вопрос был мной поднят перед Лукой об освобождении, в соответствии с решением облисполкома, от церковного имущества молитвенного дома и подыскании для молитвенных целей соответствующих помещений...»
На этой встрече владыка заявил уполномоченному относительно освобождения одного из молитвенных домов: «Храм Христов не собака, которую можно гонять с места на место! Этот молитвенный дом уже один раз перемещался местными властями из одного помещения в другое!.. Надо понять всем, в том числе и вам, что к храму Божьему надо относиться с величайшим благоговением, а не так, как относятся некоторые люди нашей страны и даже руководители!»
В 1960 году Совет по делам Русской Православной Церкви подготовил реформу приходской жизни, с помощью которой безбожники намеревались окончательно захватить церковное управление на уровне уже не только епархиальных управлений, но и всех приходов страны. Проведение этой политики очень остро ощущалось в Крымской епархии. Теперь это беззаконие должна была узаконить сама Православная Церковь, проведя навязываемую властями реформу через Архиерейский Собор.
Владыка был весьма обеспокоен грядущими событиями; незадолго перед смертью он писал своей духовной дочери: «Я всецело захвачен и угнетен крайне важными событиями в Церкви Русской, отнимающими у всех архиереев значительную часть их прав. Отныне подлинными хозяевами церкви будут только церковные советы и двадцатки, конечно в союзе с уполномоченными. Высшее и среднее духовенство останутся только наемными исполнителями богослужений, лишенными большей части власти в распоряжении церковными зданиями, имуществом и деньгами. Вы понимаете, конечно, что я не могу сейчас думать ни о чем другом...»
Имея приоритетную задачу – уничтожение Церкви, советское правительство 16 марта 1961 года приняло постановление «Об усилении контроля за выполнением законодательства о культах». Постановление, подписанное Хрущевым, прозвучало сигналом к усилению гонений, план практического проведения которых разъяснялся в неподлежащих публикациям инструкциях. Совету по делам Русской Православной Церкви было поручено произвести учет всех религиозных объединений и составить опись всех верующих групп людей для принятия к ним впоследствии соответствующих мер.
Как всегда в таких случаях решение советского правительства проводилось через Патриарха и Священный Синод. Председатель Совета Куроедов встретился 17 апреля 1961 года с Патриархом Алексием «для обсуждения предложений Патриархии об изменении положения об управлении Русской Православной Церкви в связи с необходимостью восстановления прав исполнительных органов общин в вопросах их финансово‐хозяйственной деятельности...». Патриарха сопровождали митрополит Питирим (Свиридов) и архиепископ Пимен (Извеков).
Патриарх изложил проект решения Синода «о восстановлении прав исполнительных органов общин в части финансово‐хозяйственной деятельности».
Проект, составленный Патриархом, с точки зрения властей, «был неприемлем, так как в нем не содержалось четкого указания, что настоятели храмов должны полностью передать ведение финансово‐хозяйственных дел исполнительным органам общин и что духовенство впредь является наемным персоналом...
В результате обсуждения указанного проекта Патриарх без возражений принял высказанные замечания и здесь же, во время беседы, внес поправки...».
18 апреля Священный Синод под председательством Патриарха принял соответствующее постановление, в котором самым существенным был пункт седьмой: «Настоятели храмов имеют обязанность духовного руководства приходом и заботу о богослужебной стороне, памятуя слова Апостола: “Мы же в молитве и служении Слова пребудем” (Деян. 6, 2–4) – и, как не входящие в состав исполнительных органов, не должны участвовать в хозяйственно‐финансовой деятельности общины».
Некоторые архиереи были весьма обеспокоены разворачивающимися событиями и тем, что Патриарх подписал документ, дававший возможность ссылаться на него гонителям, отстранявший священников от управления приходами, ставивший во главе прихода послушных гонителям мирян.
В мае 1961 года архиепископа Луку посетил секретарь епископа Астраханского Павла (Голышева). Он сообщил, что послан к святителю епископом Павлом, который не согласен с постановлением Синода от 18 апреля 1961 года, и просит святителя также выступить против этого постановления; есть и другие епископы, не согласные с постановлением, но хотелось бы, чтобы протест возглавил архиерей, пользующийся большим авторитетом в Церкви.
Владыка Лука являлся тогда одним из самых авторитетных святителей Русской Церкви, и он был не согласен с постановлением Синода, узаконивающим беззаконие. Он всю жизнь служил Святой Церкви, противостоял безбожникам, пытающимся ее разрушить, возражал Патриарху, предлагая выходы для решения проблем, какие подсказывали ему голос совести и верующее сердце, его глубоко огорчало все, что происходило перед его глазами, но, взвесив все «за» и «против», он отказался, сказав, что это вызовет раскол среди епископата Русской Церкви. Он понимал, что качественные изменения в управлении Русской Православной Церкви могут произойти в результате решений личностных, а не организационных, ибо и Господь действует через иерархию личностей. Стоя у границы жизни и смерти и глядя через нее уже в жизнь иную, он, чтобы не опечалить владыку Павла, велел передать ему, что он слишком слаб здоровьем, чтобы участвовать в столь серьезных и ответственных мероприятиях.
Приближалась кончина святителя. Он стал отказываться от пищи, тяжелые переживания и раздумья о судьбе Русской Церкви постоянно занимали его.
Последнюю свою литургию он совершил на Рождество Христово, последнюю проповедь произнес в Прощеное воскресенье. Незадолго перед смертью владыка с грустью сказал племяннице: «Дадут ли спеть “Святый Боже...”?»
Архиепископ Лука скончался рано утром в воскресенье, 11 июня 1961 года, в день, когда Русская Православная Церковь праздновала память Всех святых, в земле Российской просиявших.
Почти сразу после кончины святителя в его доме начались служиться панихиды, дом и двор заполнился народом, пришедшим проститься со своим архипастырем. Сначала владыка лежал дома, потом в Благовещенской церкви, а затем гроб с телом владыки был перенесен в Свято‐Троицкий кафедральный собор. У гроба все время читалось Евангелие, чтение которого прерывалось панихидами, – их по очереди служили священники. Люди шли и ехали из самых разных мест непрерывной вереницей поклониться владыке, одни сменялись другими, лились слезы, что нет теперь молитвенника, «ушел наш святой». Все, и верующие, и неверующие, понимали, что из жизни ушел великий человек. Понимали это и безбожники. Обком коммунистической партии и областной КГБ по‐своему готовились к похоронам святителя. В то время, когда тело святителя было в храме, в областную газету пришло распоряжение напечатать большую антирелигиозную статью. Родственников святителя вызвали в райисполком, где им заявили, что везти гроб с телом архиепископа Луки по центральной улице нельзя, маршрут должен проходить по окраинным улицам города; им отведут сколько потребуется автобусов, чтобы в них разместилось духовенство и все миряне, но только чтобы не было пешей процессии.
По распоряжению Патриархии хоронить владыку прибыл архиепископ Тамбовский и Мичуринский Михаил (Чуб), но власти запретили ему даже служить панихиду, и только после звонка в Москву и переговоров по телефону с руководителями Совета по делам Русской Православной Церкви он был допущен к служению, но при этом ему было заявлено, чтобы после похорон он немедленно выехал к месту службы в Тамбов.
В день похорон алтарь собора наполнился сотрудниками КГБ, которые потребовали от священников, чтобы похороны были проведены по составленному безбожниками плану. В полдень, 13 июня, тело покойного владыки обнесли вокруг собора, у входа в который уже стояли машина с венками, машина для архиепископа Михаила, автобусы для духовенства, родственников архиепископа, певчих и еще несколько автобусов для мирян, которые бы пожелали участвовать в проводах, – но в эти автобусы никто не хотел садиться. Дышащий злобой и яростью уполномоченный бегал от машины к машине, уговаривая лишних и посторонних отойти и не мешать. Но тут лишними были сами безбожники, и его никто не хотел слушать.
Регент Свято‐Троицкого собора Анна, которая когда‐то была исцелена по молитвам владыки от токсикоза, когда катафалк двинулся прямо на верующих, крикнула: «Люди, не бойтесь! Он нас не задавит, они не пойдут на это – хватайтесь за борт!» И люди, тесным кольцом окружив катафалк, уцепились за борт машины, и машина долго не могла сдвинуться с места, а затем поехала с той скоростью, с какой могли идти пешком лишь пожилые люди. Когда прошли метров сто и надо было сворачивать на центральную улицу, власти стали требовать повернуть на окраину города. Но тут женщины легли впереди машины, сказав: «Только по нашим головам проедете туда, куда вы хотите». И безбожники вынуждены были отступить и дать распоряжение ехать по центральной улице города.
Вся улица заполнилась народом, движение прекратилось, и по улице, по которой можно было пройти за двадцать минут, верующие шли три часа. Люди стояли на улицах, на балконах и в окнах. Впереди машины с телом святителя шли женщины в белых платочках, которых и Христос, и святитель называли «малым стадом», которому Отец Небесный «благоволил дать... Царство (Лк. 12, 32)», – они, ничего не боясь, шли впереди и до самого кладбища пели: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Уполномоченный и сотрудники КГБ уговаривали их замолчать, угрожали им и всячески пытались прекратить пение, но на все слышали один и тот же ответ: «Мы хороним нашего архиепископа».
Мужественному святителю‐исповеднику были устроены достойные его мужества и исповеднического подвига похороны, и он вместе с апостолом Павлом, в завещание всем проходящим земное служение святителям, мог бы сказать: «Будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника... Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия...» (2 Тим. 4, 5, 7–8).
22 ноября 1995 года архиепископ Симферопольский и Крымский Лука был причислен к лику местночтимых святых Крымской епархии. 18 марта 1996 года были обретены его святые мощи и 20 марта перенесены в кафедральный Свято‐Троицкий собор города Симферополя. В 2000 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви внес имя святителя Луки, прославившего нашу Церковь исповедническим подвигом, в список святых новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви для общецерковного почитания.
Использован материал книги: «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Май». Тверь. 2007. С. 272‐386
Страница в Базе данных ПСТГУ
Священномученика архиепископа Павлина
(Крошечкин Петр Кузьмич, +03.11.1937)
День памяти 3 ноября (21 октября ст.ст.)
Священномученик Павлин, архиепископ, Могилёвский (в миру Крошечкин Пётр Кузьмич) родился 19 декабря 1879 года в Пензенской губернии в крестьянской семье. Он рано лишился отца и был воспитан благочестивой матерью. Их дом был приютом для странников. После посещения вместе с родительницей Саровской пустыни, в сердце мальчика возгорелось желание иноческой жизни. И в 1895 году 16-летний Пётр поступает в Саровскую обитель. Затем он перешёл в Николо-Бабаевский монастырь.
Однако тяга к знаниям привела юношу в Москву. Он поступает в число братии Новоспасского монастыря и в течении одного года кончает курс Духовной Семинарии. А в 1916 году послушник Пётр окончил курс Московской Духовной Академии. В Новоспасском монастыре он прожил 17 лет и там принял постриг с именем Павлин. В 1920-1921 годах он являлся наместником Новоспасского монастыря.
2 мая 1921 года отец Павлин был хиротонисан в епископа Рыльского, викария Курской епархии. Владыка неустанно объезжал Курскую епархию, укрепляя позиции Православия в борьбе с обновленчеством.
С 1926 по 1933 годы Владыка занимал сначала Пермскую, а затем Калужскую кафедры. Владыка всегда был прост в общении и доступен. Он любил петь церковные песнопения вместе с народом, приучая паству к сознательному произношению слов молитвенных. Его очень любил простой русский народ. Владыка был незлобив как дитя. Никогда его не видели гневающимся и терпение его было удивительно, а смирение и кротость достойны преклонения. Если он видел, что кто-то раздражался на него, то не мог успокоиться, пока не испросит прощения у этого человека. Имел Святитель «сердце милующее ко всякой твари…» Так, в своём садике он построил мостик через дорожку по которой проложили тропу муравьи, чтобы случайно не наступить на них.
Когда осенью 1926 года среди епископата обсуждали возможность тайного избрания Патриарха, Владыка, бывший инициатором этой идеи, взял на себя практическое руководство проведением выборов. Он объезжал епископов по всей России, собирая подписи. К ноябрю 1926 года имелись уже подписи 72-х епископов под актом избрания священномученика митрополита Кирилла (Смирнова, память 7 ноября) Патриархом.
Находясь тайно с этой миссией в Москве, Владыка был внезапно арестован. И хотя документы не попали в Г. П. У., последовала волна арестов тех епископов, кто поставил свои подписи под актом избрания Патриарха. Год Владыка пробыл в одиночной камере. Впоследствии он называл тюрьму своей «второй Академией». 9 апреля 1927 года Владыка был освобождён, вслед за освобождением митрополита Сергия (Страгородского), который вскоре издал свою печально известную «Декларацию».
В 1933 году Владыка был назначен на Могилёвскую кафедру. 11 (24) октября 1936 года Владыка был арестован и приговорён к десяти годам заключения.
Святитель был расстрелян 21 октября (3 ноября н. ст.) 1937 года вместе с группой духовенства в Кемеровском лагере.
Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.
Использован материал сайта Храма святителя Василия Великого (на Горке).
Святые: