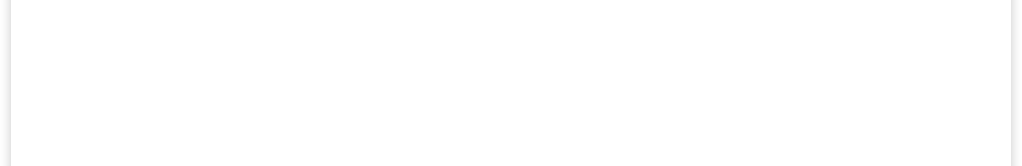Левиафан. На смерть Звягинцева
Вниманию читателей предлагается статья протоиерея Георгия Крылова, посвященная последнему на данный момент фильму Андрея Звягинцева "Левиафан" и творчеству кинорежиссера в целом.
Отслужи по мне, отслужи,
Я не тот, что умер вчера …
(Из песни А. Розенбаума)
Вчера развел ритуальный костерок у себя на дворе. Большого костра не потребовалось – хватило нескольких полешек. Всего четыре диска… Сначала полетел Левиафан – маркер смерти. Вчера посмотрел: собрат с Ютюба записал. А за ним остальные. То, что смотрелось и пересматривалось, показывалось детям и знакомым, чем жил: Возвращение, Изгнание, Елена. Пробовал смотреть снова – невозможно, все фильмы теперь отрыгаются Левиафаном. Это как невозможно читать Пушкина после Гаврилиады, или Лескова, прочитав его последние рассказы. Левиафан раздавил и творца, и его предыдущие творения.
Да, впору влезть в епитрахиль и послужить панихиду. Скольких творцов, художников, музыкантов, ученых, да и священников, духовных отцов – убила политика? Уничтожила, расплющила насмерть? Когда я учился живописи в далеких восьмидесятых, мой учитель меня юного учил: Художника убивают две вещи: страсть к славе и страсть к деньгам. Он ошибся – есть еще одна, самая подлая и опасная – идеология. В те далекие годы никто и не мог подумать об этом, потому что идеология была одна – господствующая. И всем с пеленок было понятно, что от нее нужно держаться подальше. Тех, кто этого не делал (их было очень немного) – сотоварищи сразу вычеркивали из списка живых (не по злобе – по факту). Они по определению уже не имели места в мире искусства.
А какие были учителя! Я считал Звягинцева продолжением Тарковского и Тео Ангелопулоса, Бергмана и Брессона. Любовь к фильмам не может не распространяться на автора. Как мне был симпатичен Звягинцев – в рабочее-крестьянских свитерках и пластмассовых очках! О идеалист! Свитерочки-то оказались – от Ив Роше… Поругано чувство. Сам объект любви плюнул мне в лицо… Ну, ничего, утрусь. Не впервой… Нечего душу распахивать. Утрется ли Россия?
Мне скажут, что антиклерикализм – лишь внешняя канва. За ней стоит творческая глубина, проблемы противостояния Личности и Левиафана, роль страданий и проч. Я вам скажу: нет! И не говорите мне об уровнях прочтения! И не буду я тут ничего обсуждать и анализировать. Я не искусствовед и не журналист – я потребитель. А для потребителя очевидно: от фильма плохо пахнет. Он просто пошл, безвкусен – и все. Если ладан, который кидаешь в кадило, начинает пованивать – его выбрасываешь, он уже ни на что не годен. Я понимаю, есть любители рыбы «с тухлецой». Но здесь нет рыбы – одна тухлеца!
И дело не в атиклерикализме. Потому что антиклерикализм может быть тонким, вызывать сочувствие – как у Умберто Эко (в «Имя розы», а не в «Баудалино»!) Антиклерикализм может быть художественным, поэтичным… Эко пишет, что он выстрадал эту свою позицию – это хотя бы похоже на правду (хотя я в ней сильно сомневаюсь). Но безумие для художника – взять антиклерикализм из внешней информационной помойки (которая, к слову сказать, к реальности имеет весьма опосредованное отношение, и не затрудняется даже сколько-нибудь на нее походить), слегка подчистить и поиспользовать. И художнику вообще не место на помойке…
Хотя Тео Ангелопулос всю Грецию, к примеру, изображает как помойку… Но какая это помойка! Помойка, на которой живет Бог! А здесь, извините, уборная на задворках клуба атеистов (тут отсутствует даже отсутствие Бога! – буде его режиссер хотел изобразить).
И еще… Мне хочется возопить: художники, не давайте интервью! Единственное возможное для вас интервью – это ваши картины. Интервью может убить картину. Акт творчества невозможно объяснить в интервью – для этого нужны тома… Иначе искусство бессмысленно.
Так у меня было с интересным румынским фильмом: На горах. Посмотрел и вдохновился, другим рекомендовал. Фильм жил во мне. Но вот прочитал тупое объяснение фильма самим режиссером – и фильм умер. Вся глубина и полнота смысла ушла, оказалась спрофанированной – творец своими словами сам перечеркнул свое творение. Печально… Конечно, художник почти никогда не понимает до конца того, что сделал – он часто (в лучшем и высшем случае) – канал для Творца, его деятельность – сотворчество. Но художник не может не чувствовать этого собственного непонимания – иначе грош ему цена!
Художнику после всякого творения нужно «сотворить анахорезу». История не знает «болтливых творцов». Язык художнику дается на время творения, а потом запирается, отбирается – до следующего «сеанса». А если тянет болтать – значит, чего-то «недотворил». Значит – перечеркнуть и начать заново. По другому – никак.
К чему я это? А можно было бы много заумного говорить о самом фильме, если бы сам режиссер молчал. Но он говорит, и много говорит. Вот интервью с Андреем Звягинцевым, о Левиафане… На самом деле в фильме так, как оно есть на самом деле. Здесь нет […] никаких преувеличений и никакого сгущения злонамеренного. Есть, наоборот, жажда, желание показать мир таким, какой он есть… Для художника вот эта фраза – показатель смерти. Смерти именно художника – человек остается. Журналист, анималист, чиновник, боксер или бизнесмен – кто угодно! Но современному художнику даже в голову не может прийти мысль показать, как оно есть на самом деле. Потому что это – примитив (не в смысле примитивизма как стиля, а в смысле изначального идиотизма поставленной задачи). Значит умерла творческая интуиция, угасла Божественная искра. Пришла идеологема, и уничтожила, раздавила интуицию.
Художник, конечно, не есть «зеркало русской революции». Хочешь быть зеркалом – уходи в позапрошлый век (тогда это было модно), или вообще смени ориентацию! Брось высокое искусство. Трагедии не будет – тебя с радостью примут – особенно «за бугром»! Зеркал разной степени кривизны сейчас – пруд пруди. Но место – найдется. Вокруг много всякой дряни, которую нужно отражать. И хлебушек – какой-никакой. И Оскара дадут…
Поставьте всех художников к стенке и расстреляйте – но художник – не зеркало! Тупо отражать – дело надраенного унитаза. Художник – творец своего мира. Параллельного мира, который, конечно, соприкасается с реальностью, но как то странно, своеобразно… И воздействует на реальность, наверное… Как глубок был мир Возвращения и Елены (а сколько точек соприкосновения с миром Тарковского и его Жертвоприношения!)? И вот, как слепой щенок – тыкаешься и ищешь подобного мира в Левиафане – а его просто НЕТ! Внешне все почти так же, а внутри – пустота. Поначалу что-то начинается... А потом – как будто выключатель щелкнул. После первой сцены с митрополитом. Почему? Попробую объяснить.
Почти никому еще не удавалось интерполировать священника в пространство фильма. Это – дело будущих гениев, и это очень сложно. Дело в том, что я не знаю ни одного полноценного образа священника в современных фильмах (разве что образ старца в Острове – благодаря Мамонову – но это особый случай; я не беру Бергмана, Брессона и итальянцев – это другая эпоха и иной изобразительный язык), да и в литературе их совсем мало (разве что в «Соборянах» Лескова да у Грэма Грина в «Силе и славе»). А изобразить православного епископа – сверхсложно. У тех, кто пытался, получались крашеные клоуны. А священник, как ни крути, лицо сакральное, и его сакральность (пусть искусственная) неизбежно вступает в конфликт с сакральностью иного типа – сакральным пространством кинокартины. И сразу происходит то, что мы называем десакрализацией: плюс на плюс дает минус (ну уж совсем утрируя), фильм выталкивает нас из своего мира. Мир разрушается.
Подобный эффект мне приходилось наблюдать неоднократно, поэтому не стоит вообще вводить в кинокартину подобные образы – все равно не получится (как это делал, к примеру, Тео Ангелопулос – священник у него только изредка мелькает перед камерой). Левиафан имеет, конечно, свой собственный внутренний мир (иначе не было бы фильма), но этот мир из-за очевидных «ляпов» стал предельно плоским и примитивным – как мир телесериала. Даже если убрать бездарную концовку и все сцены с епископом, фильм не оживет. Почему?
Выключатель щелкает и по другой причине – сразу чувствуется идеологическая конъюнктура. Живой мир художника творится из «жизни жительствующей». Можно подумать, что Звягинцев никогда не жил в России, никогда не общался с епископами, никогда не видел мэров и губернаторов… Но если не видел и не пережил – зачем тогда изображать? Откуда такие карикатурные и неестественные, неживые, предельно утрированные и стилизованные образы? Могу с уверенностью ответить – с либеральных информационных порталов. Это – диагноз. Представьте: гений Леонардо списывает свою Джоконду с обложки гламурного журнала…
Ну не было в России, и никогда не будет подобных взаимоотношений чиновников и обывателей. И уж тем более фантазии (известного авторства) – формат взаимоотношений местного архиерея и губернатора (мэра). Это похоже на детские страшилки. Как рассказы о том, что на Руси по улицам медведи ходят. В каком фантасмагорическом сне привиделось такое сценаристу и режиссеру? А эти «пастырские» наставления? Какое больное сознание могло их родить? А язык? Ну как же так можно самого себя так «обделать»?
Ко всему прочему это не просто прецедент – это обобщение. Автор неоднозначно говорит: такова вся Россия (как же нужно ненавидеть собственную страну, чтобы ТАК о ней сказать! – простите – к слову). В этом смысле фильм имеет совсем иной формат – не тот, который имели предыдущие фильмы Звягинцева (они были частными, там не было обобщений). И это – одна из причин провала – вряд ли стоило браться за непосильное.
Вернемся назад. Для того, чтобы показать, как оно есть на самом деле, надо ЗНАТЬ, как есть на самом деле. А разве может художник что либо знать? Трезвение разве не относится к списку обязательных профессиональных качеств художника? Он может лишь чувствовать и доверять – доверять Тому, кто водит его кистью (можно Его назвать музой – если кому так привычнее). Поэтому он и есть – ХУДОЖНИК, а не журналист, не бухгалтер и не стенограф. Поэтому его мир – вселенная, а не монитор компьютера и не газетная полоса. Именно на чувстве собственного незнания и робкого прикосновения к Чуду и держится все искусство. Не может быть никакой однозначности и полярности. Современное искусство состоит из недосказанностей. Оно само – недосказанность, и вовлекает в творческий акт зрителя. Ну нельзя же превращать зрителей в тупое быдло, повторяя набивший оскомину примитив: «во всем виноваты чиновники и попы». Искусство несовместимо с идеологией. Куда девалась многозначимость и недосказанность, психологическая и нравственная глубина предыдущих фильмов? Вместе с ней ушел и язык былого Звягинцева. Где бергмановская неторопливость, где застывшая камера, где потрясающая операторская работа? И мата раньше у Звягинцева не было, и обнаженки, кстати… А теперь стало все как у всех… Время отпевать.
Путь к знанию (то самое наивное – как есть на самом деле) – в действительности непрост, и всегда лежит через аскезу (можно сослаться на авву Исаака Сирина – о степенях ведения (Слова подвижнические. Слово 26-29). Конечно, художник – не монах. Но у него своя аскеза, свой подвиг и своя жертва. Акт творчества – его таинство. Ради этого акта художник заглушает в себе – все. Все страстное, человеческое, расчетливое – должно отойти – иначе таинство не свершится. В данном случае произошло поругание таинства. А это всегда кощунство – профанация сакрального. И за этим всегда стоит личное человеческое падение. Ну неужели можно представить бОльшую трагедию – человек стал художником, вкусил сладость ведения, и затем вновь скатился к тому, от чего бежал и отрекался? А вы мне говорите – не плачь? Тут не плакать – рыдать надо. Искусство и правозащитничество – два противоположных полюса. Я и не предполагал, как мгновенно можно скатиться…
Всех обымать любовью может только Бог. Я выгнал Звягинцева из своего мира. В моем мире нет ни Звягинцевых, ни Кураевых, ни еще очень многих, чьи имена я забыл или не знал. Пустая болтовня превращает этот мир в ад. Как ребенок, который хочет спрятаться, закрывает ладошками глаза. И мир этого ребенка за ладошками гораздо больше того мира, который снаружи – грязного и жестокого. Как прекрасен этот мир! Потому, что за ладошками ребенка живет Бог. А открой ладошки – папин ремень. Не надо бить ребенка!
Мальчик, не открывай ладошки!
А вы?